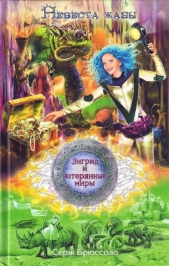Новый Мир ( № 3 2009)
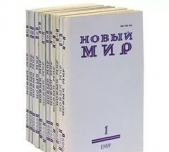
Новый Мир ( № 3 2009) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конец времен в новогодней Москве — Илья Боровиков врезывается в цитадель города с отрядом сказочных воинов Деда Мороза. Его антицивилизационный поход задействует силы иной природы, нежели у Старобинец: традиция, на которую опирается роман «Горожане солнца», гораздо позднее фольклорной архаики.
Романтическая гофманиана — кажется, будто этой культурной формулой, как ладонью, можно накрыть весь роман. Педагогический чудак во фраке скликает детей на бунт, но наступление подобно бегству. Посыл пролога — бежать «в придуманные карты», и это жест свободы. Не случайно главные героини сказки о небьющемся елочном паровозике — «тайная эфиопская принцесса» Фамарь и снегурочка Мишата — покидают врожденный удел: Фамарь уходит из бабушкиного дома бродяжничать с беспризорниками, а Мишата покидает детский дом, где воспитывалась, в мешке Деда Мороза.
Но когда мы уже готовимся, не дрогнув, принять ложечку противофилистерского сиропа, праздничный ландшафт романтической фантазии приобретает эзотерическую серьезность.
Добро и зло, романтическая мечта и действительность — знакомые ориентиры тускнеют, и наш внутренний компас настраивают по новым сторонам света: крест и круг, зима и солнце. «Горожане солнца» — само название отсылает нас к утопической мысли, по Боровикову, реализованной в современной Москве. Ядовитая солярность городской цивилизации святотатственна, потому что дерзнула нарушить естество смены дня и ночи, лета и зимы. Вытеснение зимы у Боровикова сродни зачищению архаической памяти о хрупкости человека перед инобытием у Старобинец. Утопия цивилизации в обоих случаях показана как лишенная прочных оснований, преступившая вселенский закон подделка мироздания.
Круговая заведенность городской жизни — противоестественная имитация мирового цикла. Метро — циферблат Часов, беготней ворующих у горожан жизни. Поиски героев приводят к догадке о сердцевинном механизме большой суеты города, который необходимо остановить. Против Часов выставлена обетованная Елка.
Битва с Часами — это сражение с временем, взыскание вечности. Эсхатология — закономерный, по видимому совпадению мотивов у Старобинец и Боровикова, итог литературной антицивилизационной мысли. Часы города, идущие против мирового хода, — самоубийственный механизм. Мир нулевых воспринимается как последнее время , за которым только бесконечное, а потому бессмысленное повторение дня в день, и, значит, свобода возможна только за пределами этого времени, за порогом социального и повседневного, пора свершить суд.
Детский праздничный антураж сказки Боровикова приобретает грозный смысл: новогодье разыгрывается как мистерия. Религиозные мотивы оставленности и возвращения, плена времени и вечной свободы вот-вот этот измученный постаревший мир разрушат и приподымут, разобьют и омолодят, грохнут и вызволят…
Но с последним ударом поезда в грандиозный циферблат метро сказка обнаруживает свою фантазийную природу. «Здравый смысл» злой колдуньи, филистерши Зауча, торжествует: вместе с таинственной цитаделью Часов осыпается мишурным прахом весь мир Директора — призванные рабочие выносят из магического подвала «старые карты, глобусы, картонные цилиндры и обклеенные фольгой доспехи, вороха детской одежды с обрывками лесочек на рукавах и штанинах и прочий мусор». Однако итог романа деликатно подправляет традицию романтической самоиронии сказочников. Подобно сказочному канону в прозе Старобинец, фантасмагория Боровикова спасена от судьбы сказки-лжи обновлением своих элементов в мифостроительном, космическом пространстве.
В воспроизведении канонов мифосознания — главное достижение и самобытность романа Боровикова. Ценностной энергией здесь пронизан каждый образ, о загадке существа жизни задумывается каждая детская беседа, каждый предмет участвует в базовой бинарности мифопредставления — так создается в романе чудо, ткется волшебство. Антуражная праздничность повествования только выражение этого внимания к внутреннему торжеству мира, вместе с нами и сквозь нас проживающего судьбу своего невообразимого века. Сказка Боровикова поэтому, несмотря на образную выразительность, чуждается истерии украшения, мишурной помпезности, к которым стремится актуальная культура зрелищ. «Теперь, когда огоньки погасли, в елке не осталось ничего игрушечного, а одна только серьезная и тревожная тайна», — думает не спящая в детском доме Мишата. Если убрать профанные раздражители, сакральный восторг праздника развернется в полную силу.
Финал романа тоже гасит огоньки, оставляя совсем настоящим центральный образ Мишаты, девочки, призванной найти волшебный небьющийся паровозик для мистерии Директора. Мишата, в отличие от «людских», характерных персонажей, истинно герой сказки, обладающий магической силой. Но сказка ее впитана мифом, и потому магическая сила Мишаты приобретает качество духовной доблести. «Это не ребенок <...> это волшебница и воин», — говорит Директор и, в ответ на насмешливое требование Зауча продемонстрировать какой-нибудь фокус, уточняет: «Ей нечего демонстрировать, она сама — волшебство». Так магия преображается в дух, безвинный страдалец — в героя, а приключение — в подвиг. И если в обворожительной своей ученостью Гермионе из поттерианы Дж. Роулинг мы наконец обрели образ, способный вдохновить на прилежание, то Мишата из романа Боровикова убеждает длить свой путь, хотя сносит и кружит, сопутствовать, когда замыслили предать, и продолжать верить после того, как все пали духом.
«Героическая» сказка — попытка выйти к более архаичным пластам коллективного сознания, чем те, с которыми предлагает взаимодействовать олитературенная память жанра. Сказка вспоминает свои исторические корни, переворачивая вектор своей истории как профанной деконструкции мифа. Поэтому восстановление сказочного двоемирия у Старобинец и Боровикова — это акт постижения мифологических оппозиций как полюсов мирового целого. Частному сюжету сказки при этом сообщается космический масштаб: жанр обогащается антиутопией реальности, отпавшей от инобытия, что приводит авторов к эсхатологии как антиутопии земного времени мира. Таким образом сказка вновь оказывается способной переживать пограничье .
От элемента к цельности — такая трансформация сказки призвана выправить разорванность, рассеянность постмифологического сознания. Канон обретает глубину дыхания, канонная мораль укрепляется философией духовной жизни. В центре сказки оказывается сюжет личности, в которой космическое напряжение полюсов должно найти разрешение. Это свободное включение в противостояние света и тьмы, добра и зла, жизни и смерти вновь осознается как существо человечности, отличающее природу сказочного героя от детерминированных каноном демонов, насекомых, кукол, механизмов, бессильных сделать сказку пространством своего духовного выбора.
sub Боги /sub
Д. Осокин [17]
«Любая волшебная сказка и — идя глубже — любой миф, едва ли не любое религиозное верование предполагают <…> иномирие и двоемирие » — от такого утверждения отталкивается И. Роднянская для интерпретации сказочного канона в романах Дж. Роулинг [18] . В то время как сказка обращается к своим истокам, грех не вспомнить о литературном мифе — «сказке» божественной . Поскольку авторская художественная мифология , в отличие от архаической коллективной, задана скорее энергией отталкивания от фигур общего значения, нежели взаимодействием с ними, постольку вряд ли она может быть встроена в коллективную тенденцию. Однако установить (на)против полюса постмифологической деконструкции хотя бы единичный опыт художественного мифотворчества необходимо, чтобы, во-первых, отличать последнее от мифопользования и, во-вторых, задать иерархию способов взаимодействия с мифологической системой в литературе.