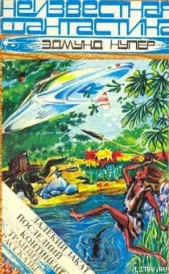Новый Мир ( № 5 2006)
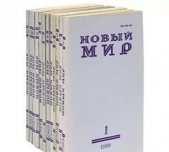
Новый Мир ( № 5 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Когда нечто такое случается, уже не имеет значения, действительно ли ребенок был брошен, потерян, отлучен, наказан за что-то, или это результат ошибочно возникшей нервной связи. Срабатывают блокировка и торможение, и человек вырастает как бы подмороженным (“Что-то с любовью...” — так Битов сам полвека спустя определит эту особенность в попытке повести... для “Плейбоя”; “точка боли” — попытка определения человеческого “я” в “Пушкинском доме”). Оттаивать Битову и его героям придется долго и болезненно. Теоретически возможна шоковая терапия, если кто-то окажется способен принести за тебя жертву (в чем смысл пришествия Христа или слез Герды, растопивших льдинку в сердце Кая), но подобное крайне редко случается в мире обусловленных человеческих связей и их неявной корысти. Отсюда недоверие к безжертвенной, хищной, слишком человеческой и чересчур сексуальной любви. К тому же, если любовь между людьми в принципе не способна избавить нас от смерти, это не может не отражаться в наших глазах на ее ценности. И в этом отношении ранний Битов воплощает собой религиозный психотип оглашенного.
О перипетиях пробуждения личности в человеке повествуется в самом эмоциональном и самом непрописанном, богатом лакунами “романе-пунктире” Битова “Улетающий Монахов”. В существовании прототипов вряд ли стоит сомневаться, хотя кем была Ася в биографическом смысле, совершенно несущественно не только для читателей, но и для автора. Какая-то из Ась оказала Битову ту же услугу, что Кафке оказала дважды помолвленная с ним Фелица Бауэр. Роль обеих инструментальна. Бурная страсть, разбуженная ими, послужила горючим для запуска повествовательной машины (для которой холостяцкие утехи или платная любовь — что разбавленный бензин). Ресурсы плотской любви в романе Битова оказались не богаче ресурсов сконструированной платонической любви в переписке Кафки. Показательно, что действие “романа-пунктира” завершается на кладбище: только шарахнувшись от смерти, способны наконец очнуться омертвелые чувства героя. Ася выполнила свою задачу и могла уйти — и даже лучше ей было уйти.
Имя Кафки не случайно всплывает здесь уже во второй раз. С австрийским классиком Битова роднит принципиальный “инженерный” подход: обоих занимает главным образом не рябь переживаний, а скрытая “конструкция” отношений и “сечение” страстей. Сближает обоих также пересечение с Достоевским, являющимся как бы гипотенузой этого литературного треугольника. Но если Кафку сближают с ним изощренная казуистика и болезненный садомазохизм, то Битова — нечто вроде общих условий алгебраической задачи: петербург как умозрительная среда и достоевский как форма или формула русских споров. Вообще, это скользкая тема. Сам Битов охотно признает литературное влияние Достоевского, Пруста и Набокова, из которых бесспорным мне представляется только первое (и то в вышеуказанном нарицательном смысле). “До кучи” он перечисляет также Голявкина, Белова и Грэма Грина, делая существенное уточнение, что каждый из них исполнил то, что ему самому в разное время хотелось, и не было необходимости решать уже решенную кем-то литературную задачу. Странное дело, писатель в таких вопросах всегда немного темнит, как осьминог, выпускающий чернильное облако. Потому что очевидно, какую школу прошел Битов у Мандельштама как прозаика и эссеиста (так, сопутствовавшие “Жизни в ветреную погоду” “Записки из-за угла” — вариация на тему мандельштамовской “Четвертой прозы”). Да и с косящим, спотыкливым ходом фразы Андрея Белого у прозы его тезки Битова куда больше общего, чем с безукоризненной выездкой набоковских строк и строф. Не говоря об Александре Сергеевиче Пушкине, о котором сам Андрей Георгиевич сказал так много, что за объемом сказанного теряется главный маленький секрет: у Пушкина он научился чему-то большему, чем литература. Как человек с высшим техническим образованием и профессионал экстра-класса, Битов мог бы строчить повести, романы и детективы не хуже X или даже Y, но отчего-то этого не делает. Поскольку не верит в усидчивость и честное ремесло как доблести, а верит в такие старинные осмеянные вещи, как вдохновение и любовь, без которых произведение почему-то не оживает. Собственно, именно этому поэтическому принципу научил его поэт: отличать живое от неживого в любой области и жанре и не тратить на неживое времени и сил. Битов и не скрывает своего “аврального” метода работы даже над романами (его опус-магнум “ПД” писался сорок с чем-то дней). Спринтерская ли, стайерская дистанция — обе преодолеваются им на одном дыхании. Метод не бесспорный, однако судить надлежит по плодам. Не думаю, что кто-то сможет обнаружить в корпусе всего написанного им, разного веса и достоинства (сегодня это выглядит так, завтра иначе), хоть одно безжизненное произведение. Любопытно, кстати, Чехов отозвался как-то о сочинениях кого-то из современников: пишет, сукин сын, будто холодный в гробу лежит. Пушкинский секрет — не секрет никакой вовсе, ни тогда, ни теперь. Просто далеко не всем он подходит и не всех устраивает.
“Гулливерство” Битова
Если подумать, нет ничего странного в том, что Питер порождает самых “вестернизованных” наших писателей — русских космополитов, где равно важны определяющее и определяемое: русских, но космополитов; космополитов, но русских. Не извели их в свое время, даже обозвав “безродными”. Не хочется выстраивать сейчас защиту от дурака, пустое это, отмечу только, что такое качество, как пресловутая “всемирность”, очень недурно развивается на топкой почве северной столицы.
И два писателя на одну букву, два подспудных соперника, очень удачно иллюстрируют это утверждение. Их развела не только приверженность разным родам литературы, в которых каждый из них сумел стать единственным в своем роде, но и направление эмиграции. В Ленинграде тех лет бытовала грустная шутка, что Москва и Нью-Йорк равноудалены от него, но у Нью-Йорка то преимущество, что там не нужна прописка. Уносили ноги из советской “провинции у моря” в обоих направлениях. Битов выбрал Москву, путь Бродского завел его в Нью-Йорк — нетрудно догадаться, что о них шла речь. Бродского на этом оставим в покое, отметив только его беспрецедентные заслуги в русификации англоязычной литературы — в присвоении “их” творческих достижений и пропаганде “наших”.
Вернемся к Битову. Высшие сценарные курсы в Москве в середине 60-х стали чем-то вроде Царскосельского лицея для “переростков” — изумительной плеяды литераторов и сценаристов из всех советских республик. Имена их сегодня хорошо известны, все до единого сумели сделаться единственными в своем роде или хотя бы в республике. Битов так и не научился жить только в Москве, но она задала ему масштаб, и здесь он сумел стать тем, кем стал. Кажется, никто из русских писателей так серьезно не отнесся к сказкам о Гулливере, в которых спрятан золотой ключик к культуре Запада в целом: не только человек является мерой всех вещей, но и вещи служат мерой человека, вынуждая его ко всему в мире относиться по-разному и не превратиться в педанта, верящего только в свой аршин. Гибкость ума, ставшая благодаря английскому сатирику (сравните его хотя бы с нашим Щедриным) непременным признаком европейской культуры, в России достигалась только героическими усилиями одиночек. Это и есть первый урок космополитизма: суметь прочесть наконец великие иноземные книги без мелочного расчета — как Пушкин их читал.
Итак — гибкость при встрече с неизвестным в сочетании со своего рода русским даосизмом: настичь жизнь можно в любой точке, но не в любой момент — ищи ее, лови его! А остальное время — тоскуй, майся и уповай. И чтобы покончить с “гулливерством”: оно — оптика, от которой человек нечеловечески устает (державинское “я царь — я раб — я червь — я бог”). Должна существовать также стационарная система отсчета, которую каждый создает или выбирает для себя. Свою систему ценностей Битов строит иерархически: Творец всего сущего — ниже Пушкин — еще ниже автор со своими произведениями и читателями... Но уже на этой третьей ступени от иерархии не остается и следа: ЧТО КЕМ пишется и КТО читатель? В результате возникает литературная галактика без видимого центра. Разве что от отчаяния можно посчитать ее осью так называемую трилогию “Оглашенные” (с антропологической повестью “Птицы, или Новые сведения о человеке”, психоделическим трактатом “Человек в пейзаже” и романом “Ожидание обезьян” — подозрительно напоминающим аксеновскую беллетристику, только уровнем повыше). И отчего-то не ведут все дороги к “Пушкинскому дому” или от него. При том что статус Битова — как едва ли не первого, из ныне живущих, российского прозаика — мало кем оспаривается. Как же так: имеется ряд несомненных шедевров (хотя бы “Человек в пейзаже” — или кто что любит) — а “лычки” и субординация отсутствуют, царит анархия? Но в этом, мне кажется, и состоит оригинальность взноса Битова в русскую литературу. Во главу угла он смог поставить свободу и отказаться от письма как инструмента осуществления власти. Вы можете входить в его тексты и выходить из них в любом месте — отчего их воздействие не ослабевает, а только усиливается. Просто потому, что каждый из них писался в настоящий момент, а такой момент уничтожает время, отменяет его. Цель его прозы — не рассказать историю, а пробудить сознание.