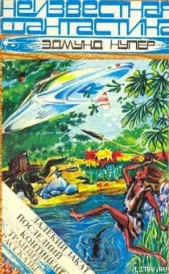Новый Мир ( № 5 2006)
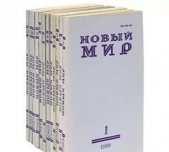
Новый Мир ( № 5 2006) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Поучительная история и не столь поверхностная, как может показаться на первый взгляд. В жизни вообще и в искусстве в особенности непонятно много зависит от имени. Все читали, как минимум, Павла Флоренского и знают, что оно как пароль и вызов. А когда не услышано, способно превратиться в издевательство. Провидение метит шельм и избранников, как ни архаично или диковато это звучит. Можно переименовать “провидение” в “случай”, “избранников” — в “мономаньяков”, но и тогда любая отмеченность, вплоть до физического отклонения или генетической погрешности, остается вызовом. Меченый (в случае Битова — еще и ногтями на руках, загнутыми, словно когти) не сумеет жить по аналогии, что называется, раствориться в коллективе. Как ни верти, мета — это знак, а любой знак требует прочтения. Автодидакт и учится читать по таким знакам, которым люди обученные не придают значения или даже отворачиваются по причине чересчур хорошего воспитания.
Проза как искусство потерь
Еще одна закономерность, лежащая на поверхности, но чаще всего игнорируемая, состоит в следующем. Поэт, как правило, заявляет о своем появлении еще в ранней юности (исключения единичны) и уже в двадцатилетнем возрасте нередко достигает творческой зрелости. И напротив, сколь-нибудь стоящая художественная проза лишь в единичных случаях написана людьми моложе двадцати пяти лет (да и те поголовно либо романтики, либо стилизаторы). Но дело не в жизненном багаже, как полагают приверженцы реализма, а в особом опыте потерь, служащем для прозы чем-то вроде искры зажигания. Повествовательное искусство запускается и начинает работать, только когда в него проникает и разряжается в нем — хотя бы в первом приближении — мысль о смерти. Предлагаю отнестись к этому как к аксиоме. Выражение даже элементарных эмоций — уже тема, достойная поэта. Прозаику же, который еще ничего не терял по-настоящему, попросту писать не о чем — нет предмета. Пример Битова не исключение из этого неумолимого правила. Не развись так мощно его литературные способности в 60-е и более поздние годы, никто бы и не вспоминал о его ранних прозаических упражнениях.
Здесь необходимо одно уточнение: людей даже с выдающимися способностями оказывается всегда на порядок больше, чем людей талантливых. Поэтому и речь следует вести не о поступательном развитии способностей, а о скачке, прыжке — акте, требующем жизненной и творческой смелости. Свой “прыжок” Битов совершил году в 1962 — 1963-м, то есть лет в двадцать шесть, что вполне соответствует открытому его персонажем Лёвой Одоевцевым кризису двадцатисемилетнего возраста (плюс-минус 2 года), который кладет конец развитию по инерции (к этому времени все, что может быть узнано и проделано в материальном мире, в общих чертах уже знакомо и начинает повторяться). На кривой козе этот порог не объедешь: здесь либо прыгаешь выше головы, чтобы распрощаться с собой прежним (а в осадке искомая потеря и первые символические поминки или похороны — как предмет прозы), либо твое духовное развитие прекращается и остается жить впредь собственной тенью (если не в мире теней, что оказывается для особо упрямых и предпочтительней). Тело еще молодо, а кураж уже улетучивается, взгляд обесцвечивается.
Художественное творчество от избытка — сказка для бедных, в основе его всегда лежит ощущение или сознание недостачи чего-то очень ценного, недоступного. С замечательным черным юмором об этом говорит умирающий кафкианский Голодарь цирковому шталмейстеру: что если бы нашлась для него пища по вкусу, то, “поверь, я не стал бы чиниться и наелся до отвала, как ты, как все другие”. Так складывается, что цветы искусства все охотнее и чаще произрастают на скудной почве предельного отвращения, тогда как на более плодородном и питательном грунте стали развиваться преимущественно его прикладные виды, собирательно — дизайн всех сортов. Имеется множество охотников видеть в них сообщающиеся сосуды и не замечать антагонизма. Дизайн, подобно наивной детской живописи, старается прожить без мысли о смерти, замкнувшись в иллюзорной среде, чего не может позволить себе никакое минимально серьезное искусство.
Полвека назад занятия в институтском литературном кружке, в остроконкурентной среде, хорошо разогрели Битова, но как оригинальный прозаик он начался после армии, института, женитьбы и рождения ребенка. Чтобы стать кем-то, ему понадобилось покинуть пределы кружка и распрощаться с холостым состоянием самости — измениться наружно и внутренне. Наперекор тогдашнему питерскому канону (Голявкин и др.) Битов отказывается от короткой фразы (к ней он еще вернется, но уже на другом уровне и в другом жанре) и впускает в текст рефлексию, с целым шлейфом переживаний по поводу отсутствующих чувств. Произошло это в повести 1963 года “Жизнь в ветреную погоду”. То был настоящий взрыв, запустивший жесткий механизм отбора. Именно в этой повести Битов впервые вышел на свою тему, угодившую в скрытый нерв самочувствия образованных современников. Межчеловеческое отчуждение по западному образцу (“некоммуникабельность” и проч.) в те годы у нас мало кому грозило. Жили в духоте и тесноте, Ива Монтана приводил в восторг наш обычай “стрелять” сигареты на улицах у незнакомых. Зато внутреннее сообщение между телом и душой у огромного числа людей еле теплилось. Посредством целого ряда более или менее автобиографических персонажей Битов и вывел на дневной свет это онемение души, противоречащее знаменитой латинской поговорке, ставшей у нас девизом физкультурников. Демонстрация на личном примере была фантастически безрезультатной атакой на совесть. Интеллигенции чаще всего, и не без оснований, вменялся избыток рассуждений и переживаний при дряблости воли и половинчатости чувств, в лучшем случае — приоритет понимания перед поступком. Поэтому энергичный и прописанный в глубину битовский портрет современника интеллигентному читателю даже льстил, подпитывая его талантом автора и внушая необоснованное чувство собственной незаурядности (типа “горя от ума”). Автогерой Битова невероятно умен и поразительно дистанцирован от чувств, его ум и сердце расположены к поиску причин страдания и непроницаемы для любви. А поскольку герой еще и чудовищно здоров, размышлять, страдать и учиться чувствовать ему предстояло очень долго. Битов не из тех писателей, что приканчивают своих героев, чтоб самим жить.
Настолько убедительно описать распространенный душевный перекос он сумел, я полагаю, благодаря особому роду бесчувствия, которому мы обязаны появлением на свет преступников и художников. При всей разности устремлений у них общий филогенез: как правило, в какой-то из фаз становления те и другие должны были ощутить себя брошенными или отверженными (и чем раньше это произошло, тем злее преступники и загадочнее художники). Пресловутое онемение души в одном случае ведет к гипертрофии желаний и эмоций, телесных по определению. В другом — к пробуждению разума и воспитанию чувств. Если виноваты во всем “другие” — получаются преступники и бытовые аморалисты, а если не все так просто — художники и философы. Но факт тот, что художника без травмы не бывает. Мы всего лишь люди, и нам свойственно инстинктивно отворачиваться от своих и тем более чужих травм. Хотя в случае Битова здесь и гадать не приходится. По собственному признанию, он помнит себя с четырех лет. Выход на травму обычно блокируется иррациональным страхом. Первая попытка — “Усталость паровоза”, 1990 год: “С петухом у меня издавна что-то не то. Мне страшно. Мне каждый раз по-настоящему страшно, когда я его слышу. Хочется как-то истолковать природу этого страха. Что тут такого страшного, в петушином крике?” — и дальше: “Может, что-то невспоминаемое? Скажем, первые фашистские налеты в Любытине, где я пребывал в детском садике летом 41-го впервые в разлуке с мамой? Может, там кричали по утрам петухи во все свое довоенное горло? Ленинград и мама были уже отрезаны от меня, и быть бы мне теперь нежившим или немцем, кабы не чудо, воссоединившее меня с мамой, о котором здесь долго рассказывать...” Но три года спустя в мемуаре “Восьмой немец” продолжает: “Когда началась война, я был с детским садиком на даче, ближе к фронту, чем к Ленинграду. Немец подступал к моему садику, а родители не имели права выехать меня забрать, нужен был специальный пропуск, а его было не достать. И вот моя бабушка подслушала в очереди разговор двух дам, одна из которых собиралась как раз ехать в тот садик забирать своего ребенка. Она была жена ответработника, и у нее был пропуск. Бабушка бросилась ей в ноги, умоляя забрать заодно и меня. Та согласилась, но ей нужна была заверенная доверенность, а времени остался час. Мама поспела с бумажкой, когда та уже поставила ногу на подножку автомобиля, чтобы ехать. И она все сделала незнакомым людям, она меня привезла, — такие были времена... Я часто думаю о том мальчике, которому не так повезло и его не забрали из садика”... (уцелевших детей ленинградцев фашисты свезли, как стало известно, в накопительный лагерь и попросту не кормили). В этом рассказе поражает своеобразный “детдомовский” фатализм (похожим образом, кстати, Марина Цветаева лишилась ребенка в Гражданскую войну — только голодом тогда морили “свои” и дело было под Москвой). А затем — наказание блокадной зимы: “...вон я там сижу, раскачиваясь, как китайский болванчик, и заунывно, бесстрастно часами пою на одной ноте: „Я голонный, я голонный, я голонный...” Мне — ничего, представляю, каково это было матери...” О выблеванной банке добытого матерью сливового варенья: “И ничего мне так жалко, как того варенья, больше не бывало”. А потом — затяжная беда эвакуации, но кому до этого дело? Если бы позже, десятилетие спустя, не обнаруживалось непонятное бесчувствие или не прорезалась жестокость в подростках.