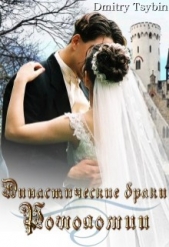Браки во Филиппсбурге

Браки во Филиппсбурге читать книгу онлайн
Мартин Вальзер — известный прозаик и драматург. Он появился на литературной сцене Германии во второй половине 1950-х годов и сразу же ярко заявил о себе. Его роман «Браки в Филиппсбурге» (1957) был отмечен премией Г. Гессе. Уникальный стиль М. Вальзера характеризуется сочувственной иронией и безжалостной точностью.
Роман «Браки в Филиппсбурге» — это история карьеры внебрачного сына деревенской служанки, который прокладывает себе дорогу через гостиные и будуары богатых дам.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Прежде еще, чем Ганс успел вымолвить слово — а что ему говорить, может, отказаться?.. это было бы величайшей глупостью, они же хотели ему добра, для него посвящение было высокой честью, вот, пожалуйста, он, мальчишка из Кюммертсхаузена, еще и года не проживший здесь, уже принят в члены самого фешенебельного клуба в городе, ему оставалось лишь благодарить этих благожелательных господ, — так прежде еще, чем он рот успел открыть, его подвели к статуе Себастьяна, «себастьянцы» встали в круг (все, видимо, были в курсе дела), Кордула и Марга принесли две свечи, поднос с бокалами, колоссальную цепь, стрелу и черную шкатулку с блестящими металлическими украшениями. Релов и Диков вытащили из карманов свои ключи.
— А где же фрейлины? — крикнул Релов.
Кордула кинула быстрый взгляд направо-налево и ужаснулась.
— Софи, Герди, да что это с вами! — закричала она, раскрыв впервые за вечер рот во всю ширь, и замахала так энергично, как только могла, в сторону бара.
Обе девицы, раздраженно бурча и недвусмысленными жестами давая понять, что им помешали, отделились от кучи переплетенных тел, в которой ясно различим был лишь сам Герман. Девицы сошли вниз и, получив от Марги две розы, небрежно сунули их себе в волосы. Но вслед за ними спустились под предводительством Германа и непрошеные гости.
Ганса между тем поставили перед Себастьяном, он взял в руки стрелу, и Кордула повесила ему на плечи цепь. Фрейлин поставили с обеих сторон. Они, глядя на него, ухмылялись. Кордула, застыв, точно статуя, держала в вытянутых руках черную шкатулку, как держат при похоронах подушечки с орденами. Релов и Диков вытащили пергаменты — Ганс понять не мог, откуда это они их так вдруг достали, — и начали вперебивку читать. Возле того и другого встали «себастьянцы», освещая каждому пергамент свечой. Мигание язычков пламени придавало всей сцене торжественно-сумрачное великолепие. Гансу пришлось повторить две-три фразы, в которых речь шла о том, что comes sebastiensis [37] и любой жизненной ситуации прежде всего остается «себастьянцем», что он при любых обстоятельствах окажет помощь каждому «себастьянцу» в беде, что он, когда только может, будет приходить в бар «Себастьян», дабы здесь на деле осуществлять добрые традиции их образа жизни, дабы здесь печься о том, чтобы жизнь всегда сохраняла свою ценность, а истинное веселье имело постоянное местопребывание.
Закончив торжественную хоровую декламацию, Релов взял из рук Кордулы шкатулку, Кордула открыла ее и передала Гансу ключ, лежавший в ней на бархатной подушечке. Стрела и ключ — вот знаки его нового звания; до тех пор пока он их носит, он вправе называть себя рыцарем ордена св. Себастьяна. Одновременно Диков протянул ему патент, Марга предложила бокал, фрейлины наклонили к нему свои крупные лица с затененными глазами, чтобы облобызать его, и со всех сторон к нему тянулись руки, чтобы поздравить его. Но прежде, чем он начал отвечать на поздравления, в их круг ворвался Герман и стальным голосом рявкнул:
— Я тоже хочу в орден!
Такой тишины, какая воцарилась в ночном баре, со дня сотворения мира нигде не отмечалось. Ганс, как раз опрокинувший в рот бокал шампанского, так сглотнул его, что все услышали и уставились на Ганса, Герман тоже; Ганс почувствовал на себе эти взгляды и понял, что неожиданно стал человеком, от которого все зависит. Не сглотни он именно в этот миг шампанское, не нарушь он жуткое безмолвие — а ведь теперь все выглядело так, будто он глотнул намеренно, будто этот шумный глоток был возгласом, заявлением, обещанием и вызовом на бой, — не сосредоточь он на себе всеобщие ожидания, возможно, все «себастьянцы» выступили бы как один и отвергли наглые притязания недостойного, на худой конец Релов, быть может, набрался бы духу и совершил поступок, достойный рыцаря-«себастьянца». Но теперь все зависело от Ганса Боймана. Он глянул в глаза Герману, для чего метнул свой взгляд с его правого глаза на левый и опять на правый, ибо невозможно с такого близкого расстояния смотреть человеку одновременно в оба глаза. (Недаром же говорят, что наедине, сидя близко, люди разговаривают с глазу на глаз. Единственное число здесь отражает тысячелетний опыт всего человеческого рода.) Однако метать взгляд туда-сюда Гансу в конце концов надоело, и он вонзил его в переносицу врага, заросшую густыми, во все стороны торчком торчащими черными бровями.
— Прошу вас незамедлительно покинуть бар, — отчеканил Ганс таким голосом, что слышавшие должны были подумать: это говорит человек, решившийся на крайние меры.
Ганс заметил, однако, что противник ухмыльнулся, обнажив два ряда хоть и желтых, но крепких зубов. В единый миг Ганс распознал этого человека, точно долгие годы был с ним хорошо знаком. Герман был примерно его ровесник, возможно, из деревни неподалеку от Кюммертсхаузена — диалект, проскользнувший в одном другом слове, напомнил Гансу родные места. Вырос он наверняка в одном из тех домишек на краю деревни, в которых ютятся немногие безземельные семьи, детей там четверо или шестеро, три комнатушки, отец — поденщик, мать — уборщица в школе, сыновья, как только кончат школу, уходят в город и годами не дают о себе знать. Дети из таких семей были единственными товарищами его детских игр: у них, как и у него, было много свободного времени, у них, как и у него, родители были не крестьяне и не посылали их каждую свободную от школы минуту на луга пасти скот или с корзинами и мешками на поля. Его звали Герман, Унзихерер по фамилии, или Кристлиб, или Шефлер, или Шорер, у него наверняка красавицы сестры, и если бы они еще чистили свои прекрасные зубы, которыми Бог благословил семью поденщика… А послал ли он из своего громадного выигрыша кое-что домой, да, наверняка, он не похож на бездельника, у него темные глаза, но не жестокие, вот, в них даже что-то подрагивает… Да он же боится Ганса, конечно, он никакой не боец, как, впрочем, и Ганс, он просто-напросто корчил из себя героя, возбужденный своим огромным выигрышем, теперь же, как только Ганс двинулся на него, он стал медленно отступать, смотрел на Ганса едва ли не умоляюще снизу вверх, ведь он на два-три сантиметра все-таки ниже, хотя сложения более крепкого и фигура у него куда лучше; неужели он позволит Гансу вот так, шаг за шагом, вытеснить себя из круга, а потом и из бара, нет, этого он не допустит, слишком много глаз следят за ними, слишком далеко он уже зашел, но и у Ганса не было пути назад, их спустили друг на друга, и теперь их несло друг на друга, им ничего уже не изменить. Ганс почувствовал, что страх у его противника пошел на убыль, хотя еще окончательно не выветрился, глаза его все еще выдавали робость перед хорошо одетым господином, он, видимо, принимал Ганса за именитого горожанина, о да, это кое-что значит, Гансу стоило только окинуть одним-единственным взглядом незаметно отступающего парня, на котором мешком висела наспех купленная одежда, и презрение сталью блеснуло в его глазах и погнало быстрее кровь по налившимся силой рукам и ногам; однако противник тоже собрался с духом, мерил взглядами городского господина, выискивая точку, куда бы половчее влепить первый удар. Ганс понял, что нельзя терять ни секунды, если он не хочет пожертвовать своим в некотором смысле моральным преимуществом, единственной его надеждой победить, поэтому он ударил первый, дважды. Но двинуть в живот, треснуть по шее, а тем более смазать по физиономии Ганс не осмелился, он только ткнул дважды в твердо-мускулистую грудь врага. Тот ударил в ответ, но Ганс, более тяжелый, попросту кинулся на противника, как кидаются очертя голову в пропасть. Рухнув на пол, они выкатились с площадки, на которой стоял святой Себастьян, и загремели по лестнице, пересчитывая ступеньки до нижнего балкона. При этом подметальщик, видимо, стукнулся затылком о ступеньку, а Ганс тяжестью своего тела и силой отчаяния усугубил удар. Парень лежал недвижно. Ганс поднялся и с удивлением поглядел на противника. Девицы уже несли воду и тряпицы. Приверженцы Германа склонились над своим предводителем, пытаясь вернуть его к жизни.