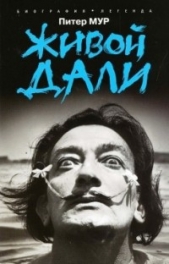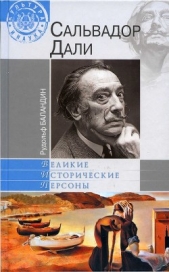Повести и рассказы

Повести и рассказы читать книгу онлайн
Член Союза писателей СССР Леонид Гартунг много лет проработал учителем в средней школе. Герои его произведений — представители сельской интеллигенции (учителя, врачи, работники библиотек) и школьники. Автора глубоко волнуют вопросы морали, педагогической этики, проблемы народного образования и просвещения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Если ж честно, до полной откровенности, то будь мне на годков сорок поменьше, я бы тоже не к Юльке, а именно к Варюхе взоры свои устремил. Есть в ней нечто. Даже затрудняюсь, как определить. Неподдельность какая-то, красота, которую не сразу и увидишь. И как Гошка наш ветроголовый сумел это с первого взгляда поймать, диву даюсь. Она всерьез живет, нисколько не играет, ей верить можно, как самому себе. И вместе с тем какая-то совсем незащищенная. Трудно ей в жизни. Таким всегда трудно, потому что для них все всерьез… И, между прочим, я замечал, она себя значительно ниже своей подружки ставит, печалится, должно быть, что в сравнении с ней такая незначительная и невзрачная. Не понимает еще своей силы и красоты.
А Юлька — стрекоза. Радуется, что живет. Вся жизнь для нее — забавная игра. Только чего от этой игры ждать в итоге? Горя или радости?
Но в целом жить веселее стало. Уедут — тосковать буду. И все же в этом всем есть капля дегтя — внимание Георгия к Варе. Жениться парню пора законным порядком, а не на девчат поглядывать.
И вот оказались мы с Георгием вдвоем. Весь дом в нашем распоряжении. Сестре на этот раз повезло. Выкарабкалась. Смерть ее уже за руку тянула, а мы не пустили. Точнее говоря, Маша не пустила. Анна неделю пробюллетенила, а затем отбыла на курорт. Должно быть, теперь доехала. Ждем телеграммы со дня на день. И, между прочим, Анна, уезжая, наказала Маше:
— Ты тут за моими мужиками приглядывай.
Сказано это было при мне, и в мою сторону сестра кивнула, но, конечно, не меня, старого, имела в виду. С какой стати за мною приглядывать? На Георгия она Машу нацеливала. Но тут и наказов особых не требовалось. Едва Анна за дверь, как Маша в дом.
— Добрый день… Мимо шла. Думаю, зайду — нет ли писем.
И топчется на пороге, ждет, чтобы войти пригласили.
— Мы с ней обсуждали… На самолете быстрее и проще. Она сейчас на месте должна быть.
О самолете я не помню, чтоб речь шла, а Георгий, невежа, как сидел спиной к двери, так и не повернул головы. Жалко мне стало девушку. Пригласил я ее, усадил, вопросы стал задавать. Надеялся, Георгий в разговор вступит, но ничего подобного, уперся в книжку. Так мы с ней битый час толковали. И об инфарктах, и о вирусах, и о раке. Ни одной проблемы важной не оставили в покое. Меня аж в жар кинуло, а главнейшая-то проблема заключалась в том, чтобы он в ее сторону глянул.
Смотрел я на Машу и думал: «До чего же стойкая девица. Нервы железобетонные. Я б давно не стерпел, убежал от стыда. А, впрочем, может, так и нужно счастья своего добиваться».
Знаю я эту Машу с пеленок. И отец ее был моим другом чуть не всю жизнь. Иннокентий Максимович — Кешка Лихачев. В детстве раннем мы порознь были, а близко сошлись уже в Берестянке, во время коллективизации.
Началось с того, что он от смерти меня спас. Чуть живого из проруби выволок и на себе до села дотащил. А потом, чтоб его опозорить, подкулачники слух распустили, что именно он, неверующий, храм православный подпалил. И приволокли его, связанного, и хотели в пламя той церкви кинуть, но мы, тогдашние комсомольцы, его отбили.
А в общем-то, он сильно нелюдимый был и все больше недостатки вокруг замечал. Хоть в людях, хоть в чем. Я его так оценивал: «Обыватель, но не враг». От всего общественного всю жизнь отстранялся. Георгины в палисаднике высаживал. Несколько сортов — залюбуешься. Пчелы — своя пасека. Вечерами летом на скамеечке, вместе с женой. Досталась ему баба сварливая, злая. Может, от нее в конце концов набрался он этой нелюдимости. Не знаю. Во всяком случае, сперва на счетах в конторе щелкал, затем на арифмометре, а что у него на душе — никому не известно. И сколько ни звал его в библиотеку — ни ногой. Только по выходе на пенсию появился. И со всею своей серьезностью. Его по имени не назови, хотя мы из одного села и вместе без штанов бегали. Он меня Иваном Леонтичем, а я его Иннокентием Максимовичем величаю. И обязательно на «вы». Это в библиотеке. А если, к примеру, на конюшне встретимся, он меня Ванькой, а я его Кешкой.
Вот так на него библиотека влияла. Приходил он сюда с важностью — не подступись. Не читал — священнодействовал. Литературу художественную начисто отрицал. Я ему предложу, а он мне в ответ:
— Выдумать я и сам что угодно могу.
— Почему ж вы писателем не стали, раз фантазия так сильно развита?
— А что писателем? Захотел бы и стал… Только мне это ни к чему. Вы думаете, написать было бы не о чем? Я знать желаю, как человечество жило.
Жена у него умерла, на пенсию старик вышел, дети повыросли и в нем не особенно нуждаются, теперь и о человечестве можно поразмышлять.
Взял он Плутарха. Почитал, почитал и заявляет:
— Вы не заметили, Иван Леонтич, что эти спартанцы шибко на фашистов смахивают?
— Есть, — говорю, — некоторое сходство.
— И еще насчет Демосфена. Почему сейчас таких ораторов нет? Ученые великие есть, изобретатели тоже, полководцы опять же, а вот ораторов нет. Ну, скажите, кто у нас сейчас великий оратор?
Что ему ответить? Загнал меня в тупик.
Плутарха кончил, за Светония принялся. Взял «Двенадцать цезарей». Почитал неделю, другую, затем тихонько подходит ко мне и спрашивает:
— Вы что же мне дали?
— Как что? Историю. Вы же хотели знать, как люди жили.
— Да разве это жизнь? Пилой живых людей распиливали. А Калигула что творил? Срамней не придумаешь. Нет, уж вы дайте мне что-нибудь русское, а то на этих цезарях вконец сердце угробишь.
Тогда я ему совет добрый дал: подобно испуганной блохе — по истории не прыгать, а начать чтение систематическое, с самого первобытного общества и даже с происхождения человека. Он со мной согласился и принялся «Всемирную историю» грызть. Начал с первого тома и аккуратно, не торопясь, до седьмого добрался. Закрою глаза и вижу, как он читает: осторожно лизнет палец, не торопясь перевернет страницу. Поправит очки, прочитает абзац, другой, откинется на спинку стула, поразмышляет о прочитанном, пошевелит белыми кустиками бровей и вновь склонится к странице. Вот на такого читателя любо-дорого посмотреть. Вкушает печатное слово, словно нектар драгоценный. А нынче что — статьи пошли с рецептами быстрого чтения…
Так вот Иннокентий Максимович не спеша историю грыз, и, видимо, эта неспешность в конце концов ему на пользу пошла, потому что как-то однажды он меня спрашивает:
— Знаете, Иван Леонтич, к какому выводу я относительно мировой истории склоняюсь?
Я, конечно, все дела отставил, приготовился слушать.
— К тому, — говорит он, — склоняюсь, что лучше, чем мы в настоящее время, никто из людей ни в каком государстве не жил.
— А вы всю жизнь недовольство проявляли — то не по вам, другое не так…
— Не о том речь… Читаю я и дивлюсь — сколько бедствий человечество несчастное вынесло. И чем только не воевали, и чем только не били друг друга! А всех все же не перебили. Должно быть, потому, что техника была слаба. Вручную лупцевались. Производительность низкая. А теперь, когда атомные бомбы придумали, много успешней дело пойдет…
Опять, вижу, у него мозги в мрачную сторону поворачивают. Что делать, думаю. А ну-ка — дам ему Ленина.
Начал он Ленина, повеселел.
— Вот это история, — говорит. — Владимир Ильич прямо в корень смотрит. Не все я, к сожалению, понимаю. Образования не хватает. Но суть улавливаю. И все, что до сих пор читал, по порядку укладывается.
Даже разоткровенничался и на «ты» перешел.
— Знаешь, Иван, вот я седьмой десяток разменял, но не это мне горько, а то, сколько времени зря пропало. Только-только мозги в порядок приведу — в рощу пора. Зачем-то с бабкой своей скандалил. Зачем-то с георгинами возился. Океан цифири всякой через мозги пропустил. А зачем? Мне б начать читать так вот лет сорок назад. Дурак, тебя не слушал… Я б, пожалуй, иначе женился, иначе всю жизнь свою спланировал…
Седьмого тома не дочитал. Он и сейчас на полке с его зеленой закладочкой на 67 странице, где фотография лондонских докеров напечатана.