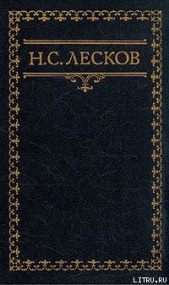Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
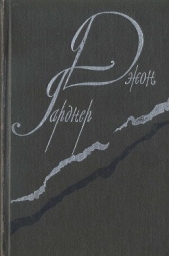
Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы читать книгу онлайн
Проза Джона Гарднера — значительное и своеобразное явление современной американской литературы. Актуальная по своей проблематике, она отличается философской глубиной, тонким психологизмом, остротой социального видения; ей присущи аллегория и гротеск.
В сборник, впервые широко представляющий творчество писателя на русском языке, входят произведения разных жанров, созданные в последние годы.
Послесловие Г. Злобина
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Генри стиснул челюсти, но, взглянув мальчику в лицо, он со всей определенностью увидел, что, хотя и причина ничтожна и слова смешны, ребячье горе — настоящее горе, несправедливость ужасна, незабываема, и, нагнувшись к мальчику, сказал:
— Ну, будет, Джимми. Я тебя люблю, ты знаешь. Хватит плакать.
— А я тебя не люблю, — сказал Джимми, глядя в сторону и ожидая, что же дальше.
Генри печально улыбнулся и протянул руку к его плечу.
— Бедный фантазер, — сказал он.
Он утомился, а до дома еще далеко. Он подумал, как славно было бы хоть ненадолго прилечь тут и отдохнуть.
Королевский гамбит
Притча
© Перевод И. Бернштейн
— Обман? Не говорите мне про обман, сэр! Я один раз в жизни так попался, до сих пор не знаю, на каком я свете. Два старых гнома из Нантакета… Да не гнома. Два шахматиста с приветом, так вернее будет сказать. Вельзевул и Яхве! Так-то… проклятие во веки… А вы говорите обман. М-да.
Он выжидательно сгорбился, ловкий старый притворщик. Левый глаз у него скошен в северо-западный угол вселенной. Перед ним дразняще брезжит слабая, но все же надежда. Губы он поджал. Смотрит хитро, но опасливо. Тонкий нос изогнут диковинным лезвием.
— Я б вам порассказал кое-что, ежели только вы с самого начала усвоите, что в моем рассказе нету скрытой идеи, нет ни складу ни ладу, только трубный глас да барабанный гром выспренной речи, да, может быть, слабые всполохи, что родит этот гром у вас в мозгу, сэр, — гром да ром, которым мы будем его запивать, огненная влага вечного забвения, ха-ха! — потому что я не желаю прослыть лжецом — это уж увольте! — в таких материях, как дьяволы, и ангелы, и сотворение человека, ибо об этом и будет мой рассказ.
Чинно входит златокрылый ангел и ставит выпивку на стол между старым мореходом и приезжим, человеком, по всему видно, городским. Приезжий неловко теребит губу. Не считая ангела, и речей морехода, и слуха смущенного гостя, в помещении пусто, желто. Гость еще толком не разглядел за спиной у ангела крыльев. Слегка покраснев, он озирается через плечо, поправляет галстук, не поняв, кто должен будет платить.
— Что же вы, сэр, не говорите: «Валяй рассказывай, старый дурень»?
— Валяйте рассказывайте, — говорит гость.
— Сей момент, сэр, благослови вас бог за вашу щедрость.
Он говорит:
Нет на свете зрелища прекраснее и никогда не будет, так я лично полагаю, чем добрый бриг под всеми парусами, держащий курс из какого-нибудь отдаленного порта, американского или в чужой стороне, когда он летит по ветру, но только чтобы ветер был в самый раз — не надсаживался, как полоумный, и не замирал до полного бессилия. (Глоток виски, сэр?) И видит бог, нет на свете большего удовольствия, чем сидеть высоко на мачте этого судна, внизу под тобой сверкает надраенная палуба, и в ноздри тебе шибает запахами безграничного будущего. Я много лет мечтал вот так прокатиться, но одно всегда мешало осуществлению моих желаний. Я плохо приспособлен к тому, чтобы мною командовали, чтобы мою душу водили на помочах, если можно так выразиться. У меня это с самого первого дня, как я на свет родился — о чем, хотите верьте, хотите нет, сохранил довольно ясные воспоминания. Сначала стало больно голове, а потом я чувствую, вроде бы тону, ну и заработал руками и заорал, не так от боли, хоть боль была титаническая, как от ярости и морального возмущения. Со временем я простил родителям причиненное мне неудобство, но будь я проклят, ежели еще кому-нибудь в жизни позволил такую вольность. Говорите, что хотите, мол, все люди — рабы, в физическом или метафизическом смысле; я лично провожу здесь тонкое различие.
Могу также сослаться еще на одно переживание, которое выпало мне в возрасте нежном и впечатлительном и укрепило во мне склонность избегать чужих когтей. В те годы Бостон был настоящей Меккой для всяких шарлатанов — ну там магов, ясновидцев, разных медиумов, — на их представлениях аж стены зрительных залов дрожали от воплей религиозного экстаза. И неразоблаченные преступники у них сами выходили и винились, и кто в разлуке жил, чудесным образом обретали друг друга. Были школы в Бостоне, где вас брались обучать телепатии и чтению чужих мыслей для лучшего преуспеяния в делах; а в бостонских журналах всерьез печатались доклады о жизни среди вампиров или доисторических чудищ и о поисках Эльдорадо. Да, Бостон был город не хуже прочих по части очковтирательства. В самом ближайшем будущем ожидался, по всеобщему мнению, конец света. Человечество вступало в свою последнюю эру, — эру парапсихологического пробуждения. А кто подсмеивался над всей этой спиритической трескотней, тот узколобый циник, мелкая душонка и Фома неверный, и нет для него ничего святого. Эти, на любой непредубежденный взгляд, были еще дурее медиумов.
Так вот, сэр, однажды, когда мой отец вернулся из плаванья на побывку домой — он был нантакетский китолов и бороздил океан, сколько себя помнил, а то и дольше, так он, бывало, пошучивал, — родители взяли меня на месмерический сеанс много нашумевшего тогда доктора Флинта. Флинт, как вы, безусловно, помните, если хоть раз его видели, был гора-человек, огромный, грозного вида, с сивой шевелюрой под высоченным цилиндром и твердым как сталь взглядом и такой устрашающей повадкой, что даже фалды его собственного фрака вскидывались от ужаса, когда он начинал свои пассы. Наиболее поразительные номера (не считая уж вовсе беззаконных, вроде того случая, когда он украл корону у короля Швеции, или другого, свидетелем которого я стал несколько лет спустя, самого невероятного из всего, что я видел в жизни), — наиболее поразительные номера он проделывал с помощью своей тоненькой золотоволосой дочки Миранды. Он только щелкнет пальцами, и она уже в глубоком трансе, деревенеет, будто сосенка, и врастает в место, точно почтовая контора на перекрестке. Четыре ражих мужика не могут ее сдвинуть — так это Флинт все представляет. А положенная на спинки двух стульев, эта невинная большеглазая семилетняя крошка, которая в нормальном состоянии весит, наверное, фунтов сорок, — эта девочка выдерживает вес шести взрослых югославов-акробатов из труппы Флинта. Или ее кладут в ящик и перепиливают прямо пополам. Или она отклоняется от равновесия и стоит так, держится только силой магнетического луча. Или плывет по воздуху, будто утка по реке.
Я, сами понимаете, был заворожен этими чудесами, заворожен куда больше, чем всякими там заводными автоматами или заезжими парижскими ловкачами — специалистами по мнемотехнике. Я был заворожен и в то же время охвачен ужасом, да, да, сэр! И сколько ни старался отец объяснить мне, как такие вещи делаются, до меня ничего не доходило. (А отец и сам был фокусник не из последних. Он упражнялся в этом искусстве, чтобы коротать время на палубе китобойца, так он говорил. Но я с самого начала подозревал, что дело не только в том. Садясь обедать, он не мог себя сдержать — и у него вдруг начинала пропадать ложка. Во внутреннем нагрудном кармане он носил фальшивую бороду — зачем, не знаю, но теперь, когда я стар и повидал кое-что в жизни, приезжая в родной город, я и сам запасаюсь бородой. Как рассказчик он пользовался широким признанием, чем рассказ невероятнее, тем убедительнее он его излагал. Раз вблизи Гибралтара он имел дело с морской дивой, так он нам однажды признался при всех соседях, которые, как обычно, набились к нам в гостиную его послушать, — и до того правдоподобно все описал, что мать, бедняжка, про себя страшно разозлилась и чуть не исчахла с досады. G колодой карт в руках он был гроза для всех и так легко брал прямо из воздуха монетки, что жить бы ему, кажется, в роскошных хоромах. «Ловкость рук, мой мальчик, жульничество чистейшей воды, — так он приговаривал. — Вот тебе и весь секрет житья богатого и счастливого». И ухмылялся по-обезьяньи. Но я отвлекся.)
Сильнее всего трепетала моя душа, когда Флинт гонял свою дочку по минувшим временам и строгим учительским тоном (будто вся человеческая история с ее катаклизмами — это так себе, небольшое путешествие, и припомнить его не ахти какой труд, только скучно, неинтересно, вот и вылетело из головы) спрашивал у нее, по желанию публики, разные подробности из жизни древнего Рима, Египта, Вавилона или затерянных золотых цивилизаций Индии. Освещение в зале тускнело. Тихо играл рояль. Белое платье девочки светилось, как облако в лунном луче, и лицо ее, с огромными, печальными глазами, мерцало, словно диск луны, отраженный в винно-черном лоне моря. Своим ясным, нежным голоском она повествовала о потопах, войнах, голоде, об убийствах без счета в чаще леса и под сводами храма. Профессора-историки, призванные для проверки, не находили слов. У меня перехватывало дыхание: А он отсылал ее еще дальше. И вот она говорит — торжественно и мрачно звучит ее речь, — и перед моими глазами встают картины, куда более явственные, чем стены зала и занавес из алого бархата и чем загадочная музыка, которую играет на рояле Флинтов тапер в серебряном тюрбане. Он отсылает ее в жилища первобытного человека, где по стенам пещер сочится вода. Она говорит о диких антропофагах — полузверях, полулюдях, — жмущихся к кострам и в страхе шепчущих друг другу о змеях. Мне начинает мерещиться что-то неладное. Я цепляюсь за родителей. Со всех сторон вокруг меня летают огромные, белые как снег птицы — взмывают в вышину, камнем падают вниз, гогочут, раскинув крылья от стены до стены, и, навострив когти, глаза и клювы, бьются со змеями, что извиваются в проходах амфитеатра. Я заорал. Всю жизнь (мне было тогда уже лет девять) я видел краем моего плохого, левого глаза странные тени. И теперь Флинт, пусть хоть сто раз мошенник, облек их в телесную форму. Он убедил меня, что они не менее реальны, чем Парфенон, а такой человек, как Флинт, раз уж запустит в меня коготь, пожалуй, населит ими весь мой мир. Этого я допускать не собирался. Хватит с меня бесконечных ночных кошмаров про отцовских китов, а то и похуже, про призраков и зеленокудрых, золотоглазых морских див! Я готов был отбиваться отчаянно, до последнего дыхания. Нет уж! В эти ваши мистические странствия Джонатана Апчерча не заманишь, говорю я себе. Никаких заигрываний с таинственными глубинами,