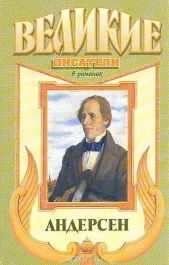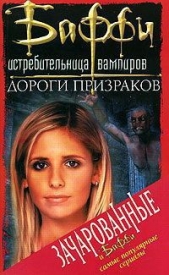Новый Мир ( № 3 2011)
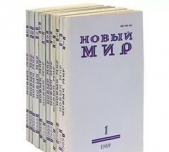
Новый Мир ( № 3 2011) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Глядя кинофильмы моего детства, юности, молодости, я автоматически отмечаю актеров: умер, умер, умерла…
Новое свидетельство
ИРИНА РОДНЯНСКАЯ
sub * /sub
НОВОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Роднянская Ирина Бенционовна — критик, литературовед. Родилась в Харькове. Окончила Московский библиотечный институт. Автор многочисленных статей о современной и классической литературе. Последние книги: «Движение литературы» (в 2-х т., 2006), «Мысли о поэзии в нулевые годы» (2010). Постоянный автор «Нового мира». Живет в Москве.
Духовная поэзия. Россия. Конец ХХ — начало XXI века
В окопах не бывает атеистов
Религиозный подъем в современной России… — кто не сомневался в его наличии? Множество восстановленных или новых храмов и монастырей? —но Бог не в бревнах, а в ребрах. Властные особы на торжественных богослу-жениях? — но меткий на слово народ их скопом зовет «подсвечниками» (пусть и не исключено, что хоть чья-то свеча теплится вместе с молитвой). Храмы многолюдны? — но по наибольшим праздникам, в силу обрядоверия, а так-то не больше 4 — 6% церковных христиан, не говоря уж о мусульманах и иудеях, чаще всего просто отдающих долг наследственной идентичности. Авторитет Церкви? — под его, пока подтверждаемой опросами, оболочкой таятся внутренний раскол и, нередко, компрометирующая политизированность. Так — подъем или упадок?
Я бы ответила: духовная тревога. Свободное от конъюнктуры и моды, от внешнего принуждения и дидактических заданий поэтическое слово свидетельствует именно о ее пробуждении. А разве искусству не случалось оглашать сегодня то, что завтра предстоит пережить обществу в его массе? Под духовной же тревогой я разумею не что-то, обозначаемое расплывчатым словом «искания», а тот трепет (если угодно, «страх и трепет»), которым исполняется человек, ощутивший на себе взгляд Другого, ощутивший — как благо или путы — свою зависимость от Присутствия. Если столько пронзительного, знаменательного, врезающегося в память написано за последние десятилетия именно «в Присутствии» (а я надеюсь показать, что это так), то не исключено, что и страна наша находится в подспудном напряжении, лишь подернутом пленкой апатии и растерянности, — находится в той ситуации, в которой «атеистов не бывает»…
Не так давно я писала, что художественному эксперту нынче приходится быть старателем, промывающим безотрадные кучи песка, чтобы найти две-три золотые крупицы. Да вот, коли ближе к заявленной теме, Сергей Аверинцев открывает свои «Стихи духовные» [1] словами:
Ты видишь, мы стоим пред Тобою,
последние меж песнопевцев,
и окрест простерлась пустыня…
Однако стоило приложить критерий «творчества в Присутствии» — в несомненном переживании его — к немалому числу весомых поэтических имен, как пустыня зацвела, а песок ее озолотился. Признаюсь, я этого не ожидала. Более того, я теперь почти уверена в своей догадке: в пределах (пост)христианской ойкумены такую поэтическую антологию может представить остальному миру только и именно Россия. Так не все еще для нас потеряно?
Но все-таки: что подходит под определение «духовная поэзия»? Ответить не так-то легко. Я сошлюсь на авторитетное мнение, чтобы тут же с ним не согласиться. Сергей Аверинцев в только что процитированной «Молитве о словах» просит Вышнего: «…подай несмутимую ясность, / благую членораздельность <…> да будут слова наши взяты / от сладкого юдольного тлена, / обособлены от гула и шума / несмысленной плоти и крови…» Это — стихотворная версия того же, что сказано им в предисловии к своей книжке. Делая очевидное различие между «стихами духовными» (чей прототип известен из славянского фольклора с его анонимностью) и «религиозной поэзией», он пишет: «…применительно ко мне эта „анонимность” <…> требовала, чтобы я по мере моих сил отказался от всего, что является лишь моей эмоцией (хотя бы эмоцией религиозной), постаравшись сосредоточиться на самой духовной реальности как таковой. Я стремился также убрать вольную игру воображения», чтобы поэзия «неотрывно и прямо смотрела перед собой, на свет, на святыню, больше не оглядываясь на автора».
Не буду говорить о том, что такая задача удалась «песнопевцу» разве что в поэме «Благовещение», которую можно назвать уникальным теологическим эпосом ; в большинстве же случаев он, выступая в стилизованной рамке фольклорной просодии и славянизированной лексики, все равно остается дружен со своим лирическим чувством [2] . Но, главное, встреча с духовной реальностью Присутствия, притом нередко встреча внезапная, способна вызвать в пишущем такое экзистенциальное содрогание, которое никак нельзя отрешить ни от личной эмоции, ни от воображения, ни от «плоти и крови», облекающих собственное, остро ощутимое «я». Говорить собираюсь именно о таких «неспокойных» стихах, составляющих для меня преимущественную область духовной поэзии на сей день.
В русской поэзии никогда не иссякали струи и религиозно-медитативные, с философско-богословской подосновой, и питаемые библейским красноречием и евангельскими сюжетами (с буквальным за ними следованием), и интимно-молитвенные. Но современные стихи вписываются в эти традиционные «форматы» лишь отчасти, находясь даже в некоем контрасте с ними. Они желают иметь дело не с постулатами религиозного предания, а с проблематичностью веры, даже когда ее Источник уже обнаружился в личном опыте. Такие классические столпы тематизированной антологии, как ломоносовское «Вечернее размышление о Божием величестве...», как ода «Бог» Державина, как «Не тем, Господь, могуч, непостижим…» Фета [3] , даже — шагнув поближе — как евангельские стихи Пастернака или молитвенные стихи Ахматовой, — не те образцы, каким следует поэзия ныне. Она отделена от этих вершин столь употребительной теперь приставкой пост- — находится по другую сторону исторического ущелья, провала в духовной памяти нации. «…Долго, долго о Тебе / Ни слуху не было, ни духу», и это «долго» переформатировало и лирическую экзистенцию, и саму поэтику.
Религия
и вера
Случился у меня разговор с духовным лицом и вдобавок с моим весьма близким приятелем. Он (не первый, конечно) настаивал, что истинно религиозный поэт — Лермонтов, написавший дивную молитву «Я, Матерь Божия… Пред Твоим образом…»; Пушкин же — явный афей, остепенившийся разве что к концу жизни. Я возражала, но внутренне сформулировать свое несогласие мне удалось лишь позже, при чтении книги о. Александра Шмемана «Евхаристия» [4] (чье богословие тоже несет отпечаток этого самого пост- ). Он указывает на «постепенное растворение веры в том, что лучше всего определить как „религиозное чувство”. [Оно] <…> тем-то и отлично от веры, что живет и питается оно самим собою , то есть тем удовлетворением, которое оно дает и которое в конечном итоге подчинено <…> субъективным и индивидуальным „духовным нуждам”. Вера, в той мере, в какой она подлинная вера, не может не быть внутренней борьбой: „Верую, Господи, помоги моему неверию…” Религиозное чувство, напротив, потому и „удовлетворяет”, что оно пассивно, и если на что и направлено, то больше всего на помощь и утешение в житейских невзгодах».
«Экстремизм» о. Шмемана немного отпугивает — если вспомнить, сколько лирических жемчужин рождено именно тем импульсом, какой он не без раздражения квалифицирует как «религиозное чувство». К ним, этим драгоценностям, безусловно относится и Богородичная молитва Лермонтова, и медитация «Когда волнуется желтеющая нива…». Но не к духовной поэзии в драматически-тесном смысле, которому я стремлюсь здесь следовать [5] . А вот строки Пушкина, написанные в 1828 году в день рождения, — духовные стихи, испытующие истину веры радикальным мятежом духа: «Кто меня враждебной властью / Из ничтожества воззвал, / Душу мне наполнил страстью, / Ум сомненьем взволновал?..» Эта провокация (я всегда изумлялась, как Пушкин решился в те времена эдакое опубликовать), так же как и вера, — следуя определению о. Шмемана — «обращена на Другого, она есть выход человека за пределы своего „я”, коренное изменение взаимоотношений его прежде всего с самим собой» [6] . Тут бесцеремонное требование отклика Другого, Его ответа — на пороге либо «метанойи», перемены ума, либо окончательного падения.