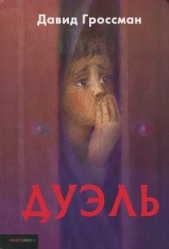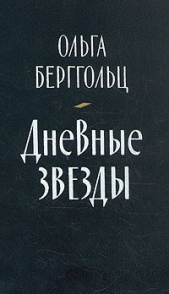См. статью «Любовь»
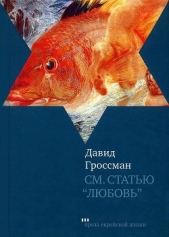
См. статью «Любовь» читать книгу онлайн
Давид Гроссман (р. 1954) — один из самых известных современных израильских писателей. Главное произведение Гроссмана, многоплановый роман «См. статью „Любовь“», принес автору мировую известность. Роман посвящен теме Катастрофы европейского еврейства, в которой отец писателя, выходец из Польши, потерял всех своих близких.
В сложной структуре произведения искусно переплетаются художественные методы и направления, от сугубого реализма и цитирования подлинных исторических документов до метафорических описаний откровенно фантастических приключений героев. Есть тут и обращение к притче, к вечным сюжетам народного сказания, и ядовитая пародия. Однако за всем этим многообразием стоит настойчивая попытка осмыслить и показать противостояние беззащитной творческой личности и безумного торжествующего нацизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Тут в воде натянулись какие-то прозрачные шнуры, липкие, странные утолщения слизи, похожие на сгустки слюны, вытекающей из безвольно раскрытого огромного рта. Мне показалось, что я ощущаю, как вокруг разливается досадное смущение. Неожиданно подо мной выгнулась дугой упругая волна и мгновенно ушла назад: я был подброшен в воздух и шлепнулся обратно в воду на значительном расстоянии от берега. И тотчас она оказалась рядом.
— Ты прав, прав, прав! И будь ты неладен, как ты умудряешься всякий раз причинить мне такую жуткую боль! Потому что да: он в самом деле хотел убить язык. Хотел привести его в такое состояние, чтобы тот начал гнить и вонять — да! Чтобы наполнился отвращением к собственной немощи и слащавости — вот именно! Как говорится… — Тут она попыталась процитировать Бруно — разумеется, так, чтобы я не почувствовал и не догадался, что это цитата. Тупая разбухшая скотина! Я не мог вспомнить, откуда именно взяты эти слова, но не сомневался, что сама она, собственными силами, никогда в жизни не смогла бы составить такую фразу. И кто знает, сколько таких замечательных цитат, редкостных великолепных озарений, эта мерзавка скрывает от меня в своих подвалах! — Тысячи, — пояснила с тонкой ядовитой усмешкой и продолжала: — И ведь уже тогда, когда мой Бруно был маленьким мальчиком, он знал это, да, и самая большая его тоска была не по другому миру, но по совершенно другому языку, которым можно будет описать этот мир, потому что уже тогда, намного раньше, чем он пришел ко мне, он угадал… Он знал, да…
— Что угадал? Что знал?
Она перевернулась на спину, выпустила в небо невысокий фонтанчик воды и принялась вращаться вокруг меня со все возрастающей скоростью. Я уставился на воду под собой, чтобы не закружилась голова.
— В гетто Дрогобыча, — произнесла она голосом чтеца-декламатора, — у Бруно был хозяин, эсэсовец, шеф гестапо по фамилии Ландау. Но другой эсэсовец, Гюнтер, ненавидел этого Ландау за то, что тот, развлекаясь однажды, застрелил его «домашнего еврея». «Если он убил моего еврея, — поклялся раздосадованный Гюнтер, — то и я убью его еврея». И вот, в «черный четверг» Дрогобыча Гюнтер выследил Бруно и застрелил его в упор двумя выстрелами в голову. А затем…
Она носится, как вьюн, как торпеда, и ловко закручивает вокруг меня полый вал воды: утягивает меня внутрь, всасывает в себя мои мысли, я беспомощно погружаюсь в ее глубины, но успеваю еще подумать, что действительно это единственное возможное объяснение. Что Бруно, с его чувствительностью и интуицией, угадал все за многие годы до того, как оно на самом деле произошло. Может быть, из-за этого и начал писать. Начал подготавливать себя к новому языку и новой грамматике. Он знал человека и знал, на что тот способен. Он слышал преступные перешептыванья задолго до того, как их различили другие. Он всегда был слабым звеном. Да, он знал, что язык, на котором могут произноситься такие фразы, как «Я убью его еврея…», язык, в котором подобные словесные сочетания не обращаются мгновенно в стеклянный порошок или в яд в горле произносящего их, не вызывают конвульсию удушья, — такой язык не годится для жизни. Бесчеловечный и безнравственный, он, очевидно, был занесен сюда когда-то давно палачами и предателями, и приговор ему может быть только один: смерть.
— Но не только язык, — возражает она поспешно, почти не разжимая рта, и я зависаю в своем падении, волны с визгом тормозят, через секунду я взлетаю вверх в стремительном ледяном фонтане. — Не только язык, — снова бормочет она, оставляя меня на мгновение трепыхаться на вершине фонтана и дрыгать в воздухе ногами, а затем принимает с бесподобной нежностью в свои тучные объятия. Руки ее покрыты веснушками песка и белесыми пятнами солнца. — Не только язык, но весь этот мир Бруно хотел изменить, весь этот мир без иллюзий и романтики, да, все, что держится на нерушимых догматах однозначности, заскорузлых обычаях и подлых соглашениях, все, что в силу своего естества относится к незыблемым, закостенелым и мертвым системам… Ты, мой Бруно, нигилист… — Голос ее вдруг прерывается, она судорожно всхлипывает, со странной торопливостью отталкивает меня и кидается прочь с высоко задранной головой, оставляя за собой в воде две особо соленые борозды.
Тут я очнулся и очертя голову помчался за нею, ухватил ее сзади за шею и процедил сквозь зубы:
— «Мессию»! «Мессию» здесь и немедленно, сию минуту! Немедленно! Если ты не…
Она взглянула на меня испуганно и жалобно, просительно улыбнулась. Вся ее заносчивость мигом улетучилась при виде того неподдельного гнева, который клокотал во мне.
— Хорошо, хорошо, — пробормотала, — но знай, что это не из-за твоей идиотской выходки, а только потому, что я знаю, что и ты тоже любишь его, да.
И тотчас, как будто разломила руками буханку хлеба, разверзла подо мной длинную и узкую бездну, и я погружался в нее целую вечность с половиной, пока не шлепнулся, подняв тучи песка и ила, в мрачное полутемное логовище и, кое-как поднявшись на четвереньки, преодолевая зыбучие пласты древних осадков и тысячелетиями копившейся пыли, медленно двинулся сквозь заросли подводных джунглей, но тотчас заплутал и попал в мощный бумажный водоворот, с трудом выбрался из него и поскакал по извилистым каменистым тропам, густо поросшим по обеим сторонам безотрадными кустами, ветви которых сгибались под тяжестью крупных, но поблекших и увядших плодов размышлений и открытий, которым никогда не нашлось применения; я раздвигал руками гигантские папоротники черновиков, задыхающихся от собственного множества, несколько раз перемахнул через живые изгороди народных легенд и сказок и начал прокладывать себе дорогу в почти прозрачной листве подражаний и плагиатов, густой до удушья, кидался то в одну, то в другую сторону и наконец закричал в отчаянье гневным голосом, что это не то, не то, не те важные вещи, которые я ищу, это еще не книга, не подлинное произведение, написанное в естественном масштабе жизни, во всей ее глубине, многообразии и дотошности, не то мгновенное озарение гениальной эпохи, которым мой Бруно был охвачен в детстве, той единственной неповторимой, истинной, блистательной и яркой весной, задолго до того, как весь мир начал извращаться и коченеть в беспамятстве смерти…
Тут она не выдержала и взревела в ярости:
— Хватит!!! — и обнажила свои зеленые и острые клыки-кораллы. — Хватит рыться, хватит копаться в моих внутренностях и мучить меня!
А я кричал:
— Правду! Подавай мне правду, а не какой-то искаженный апокриф, тысячную копию, неумелую подделку! Предъяви мне то, что он оставил у тебя! Дух горения, запах паления! То бесценное прекрасное предложение, которое сумел составить на своем собственном языке, фразу, которую никто не может отобрать у него, позволь мне, по крайней мере, прикоснуться к тому мгновению, предшествовавшему рождению гениальной фразы, которую я никогда в жизни не сумею понять! Допуск к великой тайне я требую от тебя и на этот раз не удовлетворюсь ничем, кроме этого!
Она стонет и плюется, притворяется, будто собирается вышвырнуть меня из себя; пытается нагнать на меня страху гигантскими тенями акульих стад, которые поспешно сгоняет ко мне со всех широт, извлекает, как блох, из складок своей слоновьей кожи; оглушает ужасными зловонными громами, которые вырываются из ее необъятного чрева через Гибралтарский пролив, но мне уже нечего терять, я колочу по ней руками и ногами и рычу, как загнанный зверь.
— Книгу! Книгу! — кричу я сквозь ревущие валы. — Его последнее слово, последний вывод, эту эссенцию, этот тук нашего бытия!
Она завывает, бьется о скалы своей безмозглой головой, раскалывает их, как орешки, как яичную скорлупу, расчесывает свое тело до крови острыми ребрами разбитых судов, втыкает длинный водяной палец себе в горло и выблевывает мне в лицо мерзкую липкую мешанину наполовину переваренных мертвых рыб и обломков кораблей, затем проворно подгребает под себя все свои бесчисленные покровы и наряды: все эти прозрачные мерцающие плащи и ротонды, все шарфы, платья и шлейфы и тысячу гигантских трико и панталон — и открывает удивленным взорам солнца наготу почивших в ней континентов, бескрайние степи иссохших трав, груды окаменелостей, мгновение — и мы все трепыхаемся в воздухе: рыбы, крабы, сети, парусники, подводные лодки, утопленники, гигантские раковины, старинные пиратские аркебузы и бутылки с запечатанными в них записками, отправленные потерпевшими кораблекрушение (и давным-давно умершими на своих необитаемых островах), но через минуту гигантская волна вновь обрушивается с мощным ревом на меня и на все эти сокровища, вновь покрывает водой затонувшие части суши, смешивает с грязью и тиной все воспоминания и медленно разворачивает перед моими взорами огромных размеров зеленый лист, одиноко колеблющийся в мрачных глубинных слоях подо мной, освещенный слабыми разреженными лучами странного света, выбивающегося откуда-то снизу, усеянный тысячью налипших на него малюсеньких пузырьков воздуха, раздумчивый, отшельнический лист, наводящий непонятную тоску и удрученность на стаи проплывающих мимо рыб, в тревоге шарахающихся от него, и я с трепетом, не помня себя от счастья, зависаю над ним, смеюсь и плачу и с трудом разбираю сквозь слезы заглавные буквы, вытканные из сочных зеленых водорослей: «МЕССИЯ».