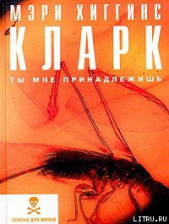Завещание Оскара Уайльда

Завещание Оскара Уайльда читать книгу онлайн
Книга представляет собой апокриф предсмертного дневника Оскара Уайльда. С исключительным блеском переданы в ней не только взгляды Уайльда, но и сам характер мышления писателя. В Англии роман удостоен премии Сомерсета Моэма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Часто она бывала возбуждена, смеялась не переставая, примеряла на меня свои шляпки и серьги – но время от времени ее окутывала такая глубокая задумчивость, что она не видела и не слышала меня. Я пытался поймать ее взгляд, когда она медленно шла по комнатам, – иногда даже окликал: «Мама!» – но она просто проходила мимо. Были у нее любимые фразы, которые она произносила со вздохом в самые неподходящие минуты. «Тщета! Какая все это тщета!» – восклицала она без всякого явного повода и принималась напевать какой-нибудь воинственный мотив.
Много раз она приходила ко мне в спальню почитать мне что-нибудь свое. Она декламировала отрывки из перевода «Сидонии-чародейки» или из своих баллад, и патриотические ритмы завораживали меня. «Молодые ирландцы, – говорила она, придвигая лицо вплотную к моему. – Ведь и ты у меня молодой ирландец». Порой я чувствовал в ее дыхании сладкий запах алкоголя, и с тех пор я привык считать его естественным спутником поэзии.
В дни моей невинности любое чтение сильно на меня действовало. Я не испытывал в жизни большего наслаждения, чем в ранней юности, когда целые вечера пролеживал в постели, натянув на голову простыню и читая какую-нибудь книгу из библиотеки сэра Уильяма. Покоробленные листы источали чуть терпкий запах плесени, с переплета мне на руки сыпалась труха; но главным ощущением, которое с той поры для меня крепко-накрепко связано с книгами, было ощущение тишины и тайны этих добываемых украдкой часов.
Именно в этом возрасте мне открылся мир поэзии, что означало для меня обретение себя самого. Была одна книга, которая произвела во мне настоящий переворот. Случайно мне попал в руки томик Теннисона; в тот поздний час, когда мне уже надлежало спать, я читал его в постели, привернув лампу так, чтобы только-только видеть буквы. Я рыскал глазами по страницам в поисках нетленной пищи, которая одна могла насытить меня, и вдруг наткнулся на строчку: «И камыши вздыхали, ветру вторя». Не понимаю, почему она так необычайно на меня подействовала: я словно очнулся от долгого сна. Я повторил эти слова вслух и встал с постели. Я стоял посреди комнаты широко раскрыв глаза. Я был разбужен – но разбужен для того только, чтобы оказаться во власти новой, более длительной грезы.
Я спустился в комнату, где сидела мать. Должно быть, вид у меня был дикий; она встала и пошла мне навстречу. Кажется, она спросила, что случилось, но я словно онемел. Словно эта прекрасная строка смахнула с моих губ все олова – подобно тому, как молоко, которое смахнули с губ Гермеса, разлилось по небу и стало скоплением звезд. Ибо я понял, что хочу стать поэтом, и судьба моя с той поры начертана звездными буквами на небесах.
Во мне поднялось томление, которого ничто не могло унять. Окружающие вызывали во мне неудовлетворенность и раздражение. Уже в то время я чувствовал в себе нечто такое, что должно было поставить меня выше их всех, и во мне вскипал безотчетный мальчишеский бунт против дублинских писателей и художников, которых принимала у себя моя мать.
К ней я обращался в поисках успокоения. Вечерами она часто приходила ко мне в спальню и ложилась рядом со мной в постель, и это доставляло мне странную радость, которая томит меня до сих пор. Иной раз она засыпала, и тогда я придвигался к ней ближе и обнимал ее. Я слышал ее дыхание и старался дышать с нею в такт, пока сам не засыпал. Просыпался я всегда один, но дни наши были полны беззаботной дружеской близости. Мы были сообщниками в жизни, которая для нас превращалась в игру. Вдвоем мы чинно гуляли по Меррион-сквер, и мать шепотом делала ехидные замечания о тех, с кем мы встречались и раскланивались. «Порочна, – сообщала она о какой-нибудь безобидной на вид пожилой даме. – Порочна до мозга костей». «Оскар, взгляни на эту шляпу, – и указывает на мужчину, идущего подругой стороне улицы. – Настоящее концертино. Пойду попрошу его на ней сыграть».
Мой брат Вилли чувствовал, какие узы связывают меня с матерью, и, как мне теперь кажется, недолюбливал за это нас обоих. Обычно он просто не обращал на меня внимания, но, будучи старше и сильнее, он мог, взъярившись, поколотить меня, довести до слез. В раннем возрасте, ощущая свое превосходство, он чаще всего держался покровительственно; но когда я начал делать первые успехи, его заносчивость переросла в зависть и даже злобу. Ничего удивительного, что, приехав в Лондон, он сделался журналистом. Открою один секрет: я подозреваю, что он, как и я, тяготел к греческой любви, но по слабости характера не решился дать этому влечению волю. Потому-то он так радовался моему несчастью.
Ведь именно он пять лет назад закрыл перед посетителями дверь лондонского дома моей матери, у которой я нашел пристанище в промежутке между процессами: он не хотел позволить друзьям утешить меня. Когда мать уходила в свою комнату, он, по своему обыкновению, грубо напивался и принимался задавать мне возмутительные вопросы личного характера – получались настоящие сцены из Ибсена. Но его уже нет в живых, и если о нетленности его души еще можно спорить, нетленность тела ему обеспечена: проспиртовано оно на славу.
У Вилли была еще одна причина для неприязни ко мне – моя любовь к нашей младшей сестре Изоле. Она умерла, когда мне было двенадцать. Мы часто играли вместе. Я изображал перед ней мать, вытягивая шею и вращая глазами. Я рассказывал ей истории, вся прелесть которых заключалась для меня в том, что она верила каждому моему слову. Когда она умерла, я испытал такое страшное горе, что удивился самому себе. Она была единственным человеком в моей семье, любовь к которому не стала для меня источником стыда или смущения. С ее смертью любовь во мне тоже умерла: горе сотрясает человека, как лихорадка, и оно же приводит его в оцепенение. Я помню, как мать повела меня в ее спальню попрощаться с ней. Об ощущении полного отчаяния говорят, что его потом невозможно вспомнить, – вот и я не в силах описать свое тогдашнее состояние. Могу только сказать, что я как будто смотрел на мир с огромной высоты. Моя память все еще хранит ее неясный образ – лицо порой возникает передо мной, как моя собственная детская фотография.
Муж моей матери сэр Уильям Уайльд был человеком в высшей степени разочарованным. И он не знал ни минуты покоя – время было его коварным врагом, которого нужно было подчинить себе, скрутить, как кровожадного тигра. Без видимой причины он иногда бросался вон из дома и быстрыми шагами устремлялся прочь; выбегая вслед за ним, я видел его фигуру, удалявшуюся по Уэстланд-роу. Но уже через пять минут он возвращался с выражением сильнейшей радости на лице и тут же скрывался в библиотеке. Будучи человеком крайне неопрятным, он имел привычку сморкаться, прижимая к одной ноздре палец. За столом он то и дело принимался чистить ногти на скатерть старым гусиным пером, которое всегда носил в кармане пиджака.
Когда я однажды пожаловался на него матери, она рассмеялась.
– Ничего страшного, Оскар, – сказала она, – не обращай внимания.
– Но как же так: доктор – и такой неряха?
– Такой уж он человек, Оскар; а доктор он хороший.
– Неужели пациенты не жалуются?
Я не знал тогда, что о нем действительно идет дурная слава, но не из-за неряшества, а из-за распущенности. Мать строго на меня посмотрела, и я ретировался наверх.
Сэр Уильям по-настоящему становился самим собой, лишь когда мы переезжали в Мойтуру; там он целыми днями копался среди диковинных каменных нагромождений, которые в этих западных краях напоминают остатки какой-то жуткой исчезнувшей цивилизации. Порой он нехотя брал в свои вылазки и меня; он казался мне тогда выходцем из страны эльфов, жаждущим вернуться в это свирепое королевство. Однажды мы нашли старинный кельтский крест, и он пустился вокруг него в пляс, вне себя от восторга. Мы вернулись с добычей домой – это был первый крест в моей жизни и, увы, не последний, – но экономка Энни преградила нам путь, встав на пороге. Не подобает, сказала она, переносить с места на место священные камни. Сэр Уильям всегда уважал людские суеверия, так что мы отнесли крест на берег озера Лох-Корриб. Но его воодушевление было столь велико, что, когда мы возвращались в Дублин, он завернул крест в тряпки и оберточную бумагу и взял с собой в поезд. Я всю дорогу молился о том, чтобы не произошло крушения. С той поры я всегда испытываю необъяснимое волнение при виде почтовых пакетов: каждый раз ждешь чего-нибудь из ряда вон выходящего и каждый раз обманываешься. В этом отношении они напоминают современные романы.