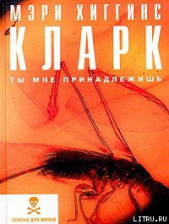Завещание Оскара Уайльда

Завещание Оскара Уайльда читать книгу онлайн
Книга представляет собой апокриф предсмертного дневника Оскара Уайльда. С исключительным блеском переданы в ней не только взгляды Уайльда, но и сам характер мышления писателя. В Англии роман удостоен премии Сомерсета Моэма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Я не рассказывал тебе про моего двоюродного брата Лайонела?
– Нет. Потому что у тебя нет никакого двоюродного брата Лайонела.
– Видишь ли, Лайонел вознамерился стать писателем. Я объяснил ему, что писателями становятся только добропорядочные люди, но это не охладило его пыла. Он написал мне тогда: «А как же Холл Кейн?» [21]
– Оскар, ты, как всегда, городишь чушь.
– А я ему: «Кто такой Холл Кейн? Не доверяй никому, кто зовется, как шотландская усадьба». Но Лайонел непоколебим. Не далее как вчера он прислал мне первую строчку своего романа. Хочешь, скажу ее?
– Валяй, если она не очень длинная.
– Вот она: «Чудесные абрикосы, не правда ли?» Я написал ему, чтобы он прислал продолжение – мне не терпится узнать, что на это ответили. Ведь я совершенно не разбираюсь в абрикосах. Нет, Морис, боюсь, что новостей у меня очень мало: во-первых, я умираю, и во-вторых, что еще хуже, у меня кончились сигареты.
Морис оставил мне две или три «травки», как он называет их на своем диковинном английском, и поспешил уйти: на улице ему как-то спокойнее. Без сигарет я просто не могу; первое и, наверно, самое ужасное тюремное переживание я испытал, когда меня их лишили. Тайна моей личности вмиг исчезла: ведь я, как Бог, должен являться людям из облака. Теперь, стоит мне вспомнить об этом жутком времени, я чувствую дурацкую потребность закурить. В результате я, конечно, дымлю беспрерывно. Мои сигареты суть факелы самосознания, с их помощью я ухожу от мира в область личных чувствований. Я лежу на кровати и смотрю, как дым, завиваясь, струится к потолку. Это единственная радость, которую доставляет мне постель.
Сна я в ней лишен – по крайней мере такого сна, какой имеют в виду врачи. Охотно верю, что моя нервная система истощена, но почему-то это не мешает ей все время напоминать мне о своем существовании. Мой маленький еврейский доктор говорит, что у меня неврастения. Я сказал ему, что, поскольку этим заболеванием страдают только высокоразвитые личности – во всяком случае, так утверждает Уида [22], – я с гордостью принимаю этот диагноз. Я и вправду был им польщен.
Нервы всю жизнь дают мне о себе знать. В юности я внезапно бледнел и со мной случались приступы астмы, в зрелом возрасте я не раз сваливался в постель с разнообразными недомоганиями, за чем неизменно следовал какой-нибудь жизненный кризис. Тело обладает своим собственным таинственным знанием: когда вымогатели или кредиторы готовили на меня очередное покушение, когда я прекращал литературную работу, оно отказывалось служить. Тело способно раньше, чем душа, предчувствовать беду. Без сомнения, именно об этом хотел поведать нам мистер Дарвин – надо только разобраться в средневековых мистериях его прозы. На сегодня хватит – я устал.
18 августа 1900 г.
Кажется, речь шла о моем детстве? Судьба моя была предопределена уже в те годы, но узнал я об этом по чистой случайности. Когда я в каникулы жил в Мойтуре, Фрэнк Хулихэн, работавший там у моего отца, однажды отвел меня к старой крестьянке, которая славилась на всю округу как гадалка. Он мне часто о ней рассказывал, и мне не терпелось побывать у нее. Видимо, я надеялся, что она распознает во мне то, что я уже открыл в себе сам. Я увидел дряхлую старуху, одетую в обычное для женщин этой местности красное платье. Она взяла мою ладонь, бледную и уже тогда крупную, и принялась рассматривать ее с несколько презрительным видом. И вдруг она погладила мне руку и заговорила о том, что судьба моя будет величественной и ужасной, что имя Оскар, прославленное в анналах ирландской истории, ляжет на меня (так она и сказала – ляжет), как дальние дали, которые видишь во сне, накладываются на дневную явь.
В молчании сели мы с Фрэнком в повозку и поехали домой. С тех пор ощущение судьбы никогда не покидало меня. Из книг, прочитанных в Порторе, я знал, что пружина всякой трагедии – безрассудство трагического героя: даже сознавая тяготеющий над ним рок, он рвется навстречу гибели. Воспеть мою судьбу, разумеется, было некому – что ж, пришлось самому стать своим собственным хором.
До сих пор я никому и никогда не рассказывал о детстве – даже тем, кто хорошо меня знал и сочувствовал мне в моих бедах, – поскольку не желал открыть постыдную тайну, принадлежавшую не мне. Когда в промежутке между процессами, отпущенный под залог, я, как раненый зверь, отлеживался в доме у матери, она с плачем пришла ко мне и сказала, что это она виновата в моей несчастной судьбе и что я расплачиваюсь за ее грех: сэр Уильям не мой отец. Я незаконнорожденный. Мне стало понятно, почему, упоминая о сэре Уильяме, я никогда не мог удержаться от вздоха и почему я совершенно на него не похож. Мне ясно теперь, почему на Меррион-сквер я всегда был как бы на особом положении и почему моя мать всеми силами старалась защитить меня от мира: она боялась, что я унаследовал ту чувственность, в которой был зачат.
В тот памятный вечер я узнал от матери, что моего отца давно нет в живых и что он был ирландский поэт и патриот Смит О'Брайен. Она рассказала, что он приезжал к нам на маленькую ферму в долину Гленкри. Ферма начисто стерлась у меня из памяти, но я смутно припоминаю тихого человека, который играл со мной в детские игры, позволял мне выигрывать и потом вкладывал мне в ладошку монету. Позже я не раз слышал его имя – он был один из тех, кто жестоко пострадал за Ирландию, и, вспоминая достоинство, с каким он держался в дни моего детства, я понимаю, что это было достоинство побежденного.
Мать говорила о тех событиях со слезами; я же, слушая, жалел не себя, а ее. Она прятала ото всех свою печаль, а ведь прошлое, если его скрываешь, начинает терзать тебя, как лисенок под плащом. Только когда со мной случилась беда, она нашла в себе силы прийти ко мне и тихо, в немногих словах поведать мне о своем бесчестье, которое соединилось для нее с моим. Охваченная раскаянием, она долгие годы сидела в полутьме, прячась от солнца.
И хотя тогда я мало что почувствовал – на меня сыпалось столько ударов, что я словно оцепенел и стал неспособен к новому страданию, – теперь это помогает мне кое-что понять. Становление личности – таинственная вещь, и все же можно разглядеть темную нить, которая тянется сквозь всю мою жизнь и берет начало в моем необычном появлении на свет. Незаконнорожденный должен творить себя сам, он должен стоять прямо, даже когда вокруг бушует ураган. И я понимаю теперь, почему я так жаждал хвалы и почета, хотя прекрасно знал, что слава и овации – суета сует. Мне стало ясно, почему общепринятые ценности были нужны мне только для того, чтобы смеяться над ними или пародировать их, почему я искал убежища в изнурительной, разрушающей нервы работе и в том словесном тумане, что окутывает меня постоянно. Признание матери лишь подтвердило то, о чем судьба нашептывала мне всегда: мое место – среди отверженных.
21 августа 1900г.
В 1871 году я поступил в дублинский колледж Троицы. Мне тогда было только семнадцать, но я уже чувствовал себя орлом, запертым в клетку с воробьями. Это была, в сущности, та же школа, и недовольство своим положением усугублялось у меня ощущением пустоты и усталости, которое я всегда испытываю, когда вокруг не звучит смех и меня не окружает внимание ярких собеседников. И хотя я был очень юн, я изрядно приуныл. Мне казалось, что я брошен в тюрьму – правда, впоследствии выяснилось, что сравнение было не таким уж точным.
Мой наставник Махаффи говорил со мной о греческом, но не без деликатных умолчаний. "Читайте Платона ради его словесного блеска, – советовал он мне. – Ради философии можете, если хотите, читать диалоги Пикока [23], но у Платона учитесь тому, как театрализировать устную речь и творить из беседы высокое искусство". И я по ночам громко декламировал «Федона». Я переводил Аристофана, и он получался похожим на Суинберна. Я читал Суинберна и воспринимал его как пародию. Я скептически относился ко многим из авторов, которых нам приходилось изучать. Прохладная афористичность Вергилия и глупая рассудительность Овидия раздражали меня; я испытывал отвращение к трескучей похвальбе Цицерона и скучной серьезности Цезаря. Зато я по достоинству оценил звучную африканскую латынь Апулея и сухие сжатые фразы Тертуллиана, писавшего и проповедовавшего во времена бесчинств Элагабала. Но больше всех заинтересовал меня Петроний – его «Сатирикон» открыл мне новые изгибы чувственности. Меня не тянуло самому их изведать; достаточно было знать, что они существуют.