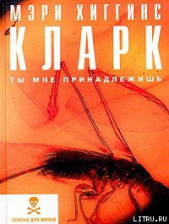Завещание Оскара Уайльда

Завещание Оскара Уайльда читать книгу онлайн
Книга представляет собой апокриф предсмертного дневника Оскара Уайльда. С исключительным блеском переданы в ней не только взгляды Уайльда, но и сам характер мышления писателя. В Англии роман удостоен премии Сомерсета Моэма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
– Оскар, ты уже использовал этот предлог месяц назад.
– Правда? Тогда прости, начисто забыл. Видишь, что сотворила нужда с моим воображением. Но пойми, Бози, обстоятельства мои какими были, такими и остались – я всецело от тебя завишу.
Он вынул из кармана несколько франков, швырнул их на пол и вышел, крикнув напоследок:
– Ты, Оскар, ведешь себя как последняя шлюха!
Я подобрал бумажки и заказал себе еще выпить. По-вашему, я себя унизил? Что ж, это лишний раз показывает, в какой яме я сижу. Когда ты перестаешь изменять мир, он начинает изменять тебя, Чем беднее я становлюсь, тем ужаснее делается для меня Париж. По всему выходит, что скоро мне придется забиться в какой-нибудь угол – иначе я буду смят в лепешку. Беллерофонт, сброшенный с Пегаса Зевсом, который позавидовал его способу передвижения, был вынужден созерцать колючки тернового куста; моим уделом, видимо, станут обои.
Но если бедность рождает созерцание, созерцание ведет к лени. Досуг для художника – важнейшее условие бытия, но он должен быть наполнен радостью. Если досуг безрадостен, то, по прелестному выражению Беньяна, ты становишься «малиновкой, держащей в клюве паука». Одни лишь воспоминания о моем искусстве вьются, как тени, над моей головой. Тело, пораженное стрелой Аполлона, еще бродит среди живых, но душа уже сошла вниз, к асфоделевым полям. У римлян было прекрасное слово «umbratilis» [9] – оно, наверно, лучше всего подходит к моему состоянию, хотя сами римляне вряд ли его ко мне применили бы. В лучшем случае я мог бы играть в какой-нибудь из ужасающих комедий Плавта. Я бы изображал старого развратника с нарумяненным лицом и крашеными волосами, вызывая каждым своим появлением хохот публики, не подозревающей, что смеется над собой. Мир всегда смеется над своими трагедиями – иначе ему их не пережить. Пойду прогуляюсь.
Я решил не идти пешком, а сесть в омнибус: я испытываю особое пристрастие к несчастливому тринадцатому номеру, который курсирует между площадью Клиши и Пале-Руаялем. Я сижу наверху и смотрю по сторонам – современный город лучше обозревать с высоты; иногда я даже прислушиваюсь к разговорам. Французы хотели превратить свою речь в искусство, но их языку недостает теней, без которых он кажется неживым. Английский, например, замечательно передает уныние через цвет – по-французски так не скажешь. Бодлер попытался привить французскому языку отчаяние, но добился всего лишь благозвучия.
Впрочем, я вторгаюсь в область, которая больше мне не подвластна. Как турист, вверивший себя Куку, я волей-неволей должен глазеть на мир. Я часами сижу в кафе и разглядываю людей, на которых раньше мое внимание не задержалось бы и на секунду. Меня интересует все вплоть до мельчайших жестов, и по лицу и повадкам человека я могу сочинить целую историю. Только теперь я стал замечать отверженных и одиноких, отличать своеобразную, как бы извиняющуюся походку, которой они идут сквозь толпу, как чужаки. И я лью слезы. Сознаюсь в этом открыто: лью слезы. В одном из романов Бальзака есть место, где он описывает поэта как человека, который «казалось бы, ничего не делает и все же царствует над человечеством благодаря умению изображать его». Может так случиться, что обыденные разговоры и жесты когда-нибудь лягут в основу новой драматической формы; сидя в кафе и глядя на прохожих, я воображаю, что каким-то чудом все эти звуки и движения превращаются в необыкновенное, многокрасочное произведение искусства. Но заслуга создания новой драматургии или прозы будет принадлежать не мне: Плач я еще, может быть, осилю, но Откровение – никогда.
Я назвал свое состояние ленью, но это не лень, а скорее столбняк. Один Эдгар По верно понимал это оцепенение воли, этот паралич нервных волокон, в которых должны зарождаться мысль и движение. В основе моего успеха всегда лежала воля к нему; подобно Люсьену де Рюбампре в ужасный миг самопознания, когда он понял, что сердце и сердечные чувства – это одно, а талант – совершенно другое, я всем пожертвовал маячившей передо мной славе. Разумеется, мы получаем не то, чего хотим, а то, что нам назначено, – я глубоко заблуждался на этот счет. Или, лучше сказать, жизнь под конец открыла мне истину, которую знал По, а я старался не знать: мы не ведаем, чего на самом деле хотим, и в итоге окольными путями, волей случая все равно приходим к цели, которая заложена в нас с самого начала.
Если так, то это самая жестокая насмешка из всех: мой успех и моя слава тогда оказываются лишь незначительными вехами на великом пути в бесчестье и, в конце концов, в забвение. Ныне я пребываю где-то посередине между раем и адом. Я, как сказал бы Данте, sospeto [10]. Я изучаю свое положение с некоторым любопытством.
13 августа 1900г.
Проснувшись сегодня утром перед рассветом, я почувствовал настолько сильную головную боль, что мне подумалось: другого утра на этой земле у меня уже не будет. Вначале мысль меня испугала, но потом я исполнился странной радостью. Какие удивительные слова просились мне на язык! Но, медленно соскользнув обратно в свое старое "я", я словно онемел. На улице по булыжной мостовой громыхали повозки с овощами, направлявшиеся к Центральному рынку, и звук этот был для меня не менее зловещим, чем для Вийона в тюрьме Мёри – стук смертной телеги. Но боль не пробудила во мне яростной жажды жизни, которую испытал Вийон. Мне нечего сказать: если бы это и вправду было мое последнее утро, я мог бы поведать миру, что овощи в Париже развозят в таком-то часу утра. И все. Для книги, пожалуй, маловато.
Сила воображения оставила меня совершенно. Когда я брался за перо в дни моей славы, радость вела меня вперед и открывала мне тайны мира; даже в тюрьме, когда я писал большое письмо Бози, радость ко мне вернулась. Теперь она ушла – вспоминаются жуткие слова: «воды поднялись до головы моей» [11], – и я не собираюсь за нее бороться. Выйдя из тюрьмы, я написал «Балладу», желая показать всем, что страдание только укрепило мой дар. Я замышлял после «Баллады» вернуться к Библии как источнику величайших драматических сюжетов, начисто забытых современной Европой; я хотел создать из истории Иезавели и Ииуя произведение такой же выразительной силы, как «Саломея». Но планы мои рухнули, едва успев оформиться. Воля дрогнула и обратилась в бегство. Мне не удастся осуществить свои замыслы, да я и пытаться не буду. Жалеть об этом бессмысленно – жизнь прохудилась так, что ее не залатать, вот и все. Одно меня утешает: в серии «Великие писатели» мистера Вальтера Скотта моего имени не будет.
И все же умирание такого художника, как я, – страшная вещь. Тому, кто знает и понимает жизнь, смерть сама по себе не несет ничего ужасного, но сколь же мучительно угасание дара! На меня обрушилось проклятие Тантала Фригийского: я вижу плоды – и нет сил до них дотянуться, меня посещают чудные видения – и приходится их отгонять.
Мои друзья, конечно, этого не понимают: они думают, что литература подобна неоконченному письму, которое всегда можно продолжить с новой строки. Робби Росс пишет мне точно так же, как писала мисс Марбери, мой американский «агент»; порой мне кажется, что они – одно и то же лицо. Он все пытается заказать мне новую пьесу, хоть я и объяснил ему, что не могу нормально работать вне Англии. Я сейчас пишу только для развитых не по годам школьников, которые присылают мне свои фотографии и задают вопросы по поводу постановки моих пьес. Я отвечаю в фривольной манере. Я – Силен, у ног которого резвятся херувимы. Может быть, стоит совершить турне по английским школам с лекциями о влиянии архитектуры на поведение – тюрьма дала мне много материала на эту тему. Я добьюсь в классных комнатах большего, чем Мэтью Арнольд [12] . Он был невозможен. Со мной дело обстоит лучше – я всего лишь невероятен. Мальчики это понимают, и неудивительно, что их интересуют мои труды, – ведь меня всегда так интересовали они сами. Но наши отношения изменились: теперь они мне ровня. Общество вынесло свой приговор художнику; новое поколение вынесет свой приговор обществу, которое так поступило. В этих мальчиках жизнь моих произведений может продолжиться.