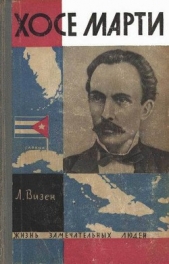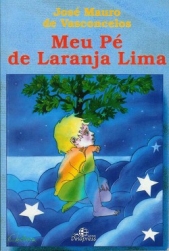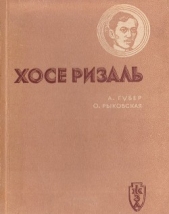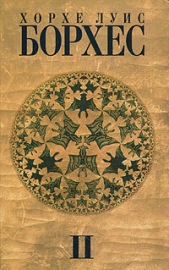Над застывшими водами и над кипящими водами —
мост исполинский мост, которого нет как нет,
но который пядь за пядью одолевает
свою собственноручную копию,
свои колебанья, сумеет ли он освоиться
с зонтиками стольких беременных
и с бременем рокового вопроса,
взваленного на мула,
терпеливо несущего миссию
низвести или перекроить сады до альковных ниш,
где дети дарят улыбки волнам,
а волны наиграны, словно зевота Бога,
и похожи на игры богов,
на раковину, раскатившуюся по селенью
отголоском игральных костей,
пятилетий и четвероногих
которые шествуют по мосту с последней
эдисоновой лампой. Но безопасная лампа
грохает всем на радость, и я на изнанке лица
работяги-соседа тешусь игрой в булавки,
ведь он был мне лучшим другом,
я ему даже завидовал, но тайком.
Мост, исполинский мост, которого нет как нет,
виадук для пропойц,
бубнящих, что наглотались цемента,
покуда бедный цемент, потрясающий львиной гривой,
выставляет свои богатства миниатюриста,
поскольку, как вам известно, по четвергам мосты
переполняются свергнутыми царями,
которым никак не забыть их последний эндшпиль,
разыгранный между гончим псом,
потомственным микроцефалом,
и осыпающейся стеной,
этим коровьим скелетом,
увиденным в геометричный
средиземноморский глазок
Предводимый несчетными полчищами муравьев
и призрачным дромадером, сейчас этот мост минует
исполинский серебряный левиафан,
а присмотреться — всего лишь муравейник
в три миллиона,
надрываясь до грыжи,
минует полночного левиафана
по мосту, двойнику свергнутого царя.
Вот этот мост, исполинский мост, которого нет как
нет, —
на медовых опорах под стать сицилийской вечерне
с пестрой афишки,
пестрящей раскатами вод,
когда им приходит конец у соленой
серебряной кромки,
а нам ее одолевать наперекор безмолвным
и бессчетным полкам, осадившим шумливый город:
все они ищут меня,
я уже вижу свою пронзенную голову
и различаю крики недвижного эскадрона,
бьет барабан,
и потеряно лучшее знамя моей невесты, —
о, если б сегодня заснуть на изрешеченных простынях
Исполинский мост торчит как заноза в мозгу,
а барабанный бой все ближе и ближе к дому,
и ничего не понять, и вот наступает ночь,
и тяжесть на сердце — как мост,
по которому пробегаю.
Но закорки моста не слышат, как я бормочу,
что больше не мучаюсь голодом,
вырвав себе глаза:
ведь теперь посреди моей спальни —
исполинский серебряный левиафан,
и я от него отламываю кусочки,
мастеря из них флейты,
трофей и забаву дождя.
И моя тоска неизбывна,
поскольку провизии хватит
на всю беспощадную вечность,
и одна лишь надежда, что голод и пыл
смогут вытеснить левиафана,
которого я воздвиг посредине спальни.
Но ни пылу, ни голоду, ни возлюбленной твари
Лотреамона {6} не перейти, кичась,
исполинский мост, потому что козлята
эллинской царской породы
на прошедшей международной выставке
показали коллекцию флейт, от которых
всего лишь эхо
тянется этим тоскливым утром,
когда у моря в груди
открывают зеленый футлярчик, разглядывая собранье
трубок, в чьих недрах истлело столько нетопырей.
Каролингские розы на переломленных прутьях.
Водяная гора, которую мулы, схороненные в саду,
отворяют в последнюю четверть ночи, о
блюбованную мостом для своих заветных желаний.
Носилки божков, полынь пополам с восхищеньем
пируэтами птиц, размягчающих даже сваи
моста, его зыбкий медузообразный цемент.
Но пора спасать свою голову:
пусть оглохнет металл оркестров
с отраженной слюной, ее завитой ракушкой,
доведенной до блеска греховной горечью губ,
на заре одаряющих нового златобита.
Может быть, мост в кружении обовьется
вокруг омелы с ее оливковой нежностью
или вокруг горба и визгливой скрипки,
которая чешет бока истекающему мосту?
Но и рассветным росам не обратить
памятливую плоть розоватых моллюсков
в зубцы и бойницы до блеска надраенных раковин.
Мост, исполинский безудержный мост,
увенчавший кипящие воды:
сны донимают его размягченную плоть,
и края неожиданны лун отдаются напевом сирены,
по перилам катящейся к берегу под уклон.
Мост, исполинский мост, которого нет как нет:
его кипящие воды, его застывшие воды,
шарахаясь от волнорезов,
еле уносят голову,
и один только голос снова минует мост,
ослепленный царь, забывший, что он низвергнут,
и до конца сохраняющий верность ночи.
Бесовские козни уже добрались до Страны Басков.
Судья Ланкре {7}, суровый посланец Кастилии,
тонет в чернилах своих меморий.
Как написать: был ли это дьявольский сговор
или простое видение?
Перед празднеством дьявола избран епископ шабаша.
Сеньор Лансинена возводится в сан,
а Ланкре посредине площади
играет на скрипке, не подпуская четыреста ведьм.
Ведьмы — из местных рыбачек и покоряют моря,
что твой Эйрик Рыжий {8}.
Лансинена готовится к первому празднеству,
как юнец к первой близости с женщиной.
Протестанты под хитрым предлогом
навязали Тренту {9} учение об оправдании.
Учение во вкусе нагого грека эпохи Перикла {10}.
«Дьявол не дознаётся праха», — роняет кто-то,
раскачиваясь на кафедре огненного бутона.
Лансинена увидел: дьявол в соседней комнате
подмял его младшего брата.
Претерпевший в покорности не изведал греха,
только вот как связать воедино
терпенье и волю грешника?
Остается развязка «Лисида» {11}: мы — друзья
и не знаем, что значит дружба.
Только у Бога разум и воля — как мановенье десницы,
входящей в море.
В человеке же воля бушует, а разум медлит.
Соль моря, перец земли и реченье Бога
розны для нашей воли.
В третьей комнате под приглушенные скрипки
Лансинена забился в падучей.
Но прежде услышал, как красный бутон раскололся
на тысячи искр и обернулся ирисом баритона.
Пьяный цветок как петух заладил:
ubique daemon, ubique daemon, —
дьявол повсюду, он прячется в красном бутоне.
В наказанье за три эти комнаты
Бог послал Лансинене проказу и стигму.
Красные язвы проказы — укрытье для дьявола,
но и хвала Творцу.
И тогда баритон беззаботно воскликнул:
ubique Deus, ubique Deus, —
Создатель повсюду, даже под гноем
и серным песком проказы.
Так пусть Лансинене соткут из фиалок новую кожу,
очистив его в умывальне душистой корпией.
И гниль заблистала, как будто пропойца
выхватил саблю.
Его девичьей кожи не тронул местный цирюльник
«Дабы превзойти сатану, Господь отшлифует
и прокаженную плоть», —
плели баритон и цирюльник, идя к роднику,
куда оступился смеющийся конь с медовыми
крыльями,
а вокруг раздавался потешный гром Иеговы,
который скакал на закорках великого Пана.