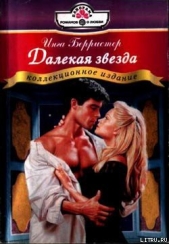Далекая звезда
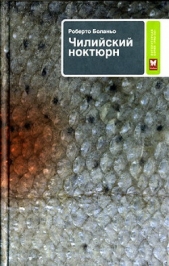
Далекая звезда читать книгу онлайн
«Я пишу, чтобы вспомнить прошлые истории и посмеяться над ними или превратить их в иные, придумав новый конец», – признавался Роберто Боланьо.
Эти слова писателя вполне можно отнести к обоим включенным в книгу произведениям, хотя ничего смешного в них нет. Наоборот, если бы не тонкая ирония Боланьо, они производили бы тяжелое впечатление, поскольку речь в них идет в основном о мрачных 70-х годах, когда в Чили совершались убийства и пропадали люди, а также об отголосках этого времени, когда память и желание отомстить не дают покоя. И пусть действующими лицами романов являются писатели, поэты, критики, другие персонажи литературной и окололитературной среды, погруженные в свой замкнутый мир, – ничто не может защитить их от горькой действительности.
Многообещающий молодой поэт Альберто Руис-Тагле в годы диктатуры превращается в Карлоса Видера, чье «имя всплывает в судебном расследовании по делу о пытках и пропавших без вести», и, хотя правосудие над ним так и не свершилось, возмездие настигает его в лице пожилого человека – бывшего полицейского при демократическом правительстве Альенде.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самолет завалился на одно крыло и вернулся в центр Консепсьона. DIXITQUE DEUS… FIAT LUX… ET FACTA EST LUX, [14]– прочел я с трудом, а может, и не прочел, а угадал, представил или мне приснилось. По другую сторону ограды, прикладывая руки козырьком ко лбу и со спокойствием, от которого щемило сердце, женщины наблюдали за кружением самолета. Я подумал, что, если бы сейчас Норберто вздумал уйти, никто бы его не остановил. Все, кроме него, застыли в неподвижном ожидании, подняв лица к небу. Никогда прежде мне не приходилось видеть столько печали, сконцентрированной в одном месте (а может, так подумалось только тогда; сейчас некоторые утра моего детства кажутся мне куда более грустными, чем тот потерянный вечер 1973 года).
А самолет опять парил над нами. Он описал круг над морем, набрал высоту и вернулся в Консепсьон. «Что за летчик! – восклицал Норберто, – сам Галланд или Руди Рудлер не смогли бы лучше! Ни Ханна Рейч, ни Антон Вогель, ни Карл Хайнц Шварц, ни Бременский Волк Талка, ни Штутгартский Костолом Курико, ни сам восставший из мертвых Ганс Марсель». [15]И тут Норберто посмотрел на меня и подмигнул. Его лицо пылало.
В небе над Консепсьоном появилась надпись: ET VIDIT DEUS… LUCEM QUOD… ESSET BONA… ET DIVISIT… LUCEM A TE-NEBRIS. [16]Последние буквы терялись на востоке среди иглоподобных облаков, столпившихся над Био-Био. И вот в какой-то момент самолет взмыл вертикально вверх и скрылся, исчез в небе. Будто бы это был всего лишь мираж или кошмар. «Товарищ, что он там написал?» – донесся до меня вопрос шахтера из Лоты. В Центре «Ла Пенья» половина заключенных, и мужчин и женщин, были из Лоты. «Понятия не имеем, – ответили ему, – но видно, что-то важное». Другой голос произнес: «Чепуха», – но в нем угадывались страх и причастность к чуду. Карабинеры у дверей спортзала странным образом размножились, теперь их было шестеро, и они о чем-то шептались. Норберто, вцепившись руками в изгородь и беспрестанно перебирая ногами, будто пытаясь вырыть яму в земле, бормотал: «Это возрождение блицкрига, или я окончательно сошел с ума». – «Успокойся», – сказал я ему. «Я и так спокойней некуда – плыву себе на облаке», – ответил он, глубоко вздохнул и, похоже, действительно успокоился.
В этот самый момент со странным хрустом, как если бы раздавили огромного жука или малюсенькое печеньице, на небе вновь появился самолет. Он опять заходил со стороны моря. Я увидел множество указывающих на него поднятых рук, грязных задранных вверх рукавов, направленных по курсу самолета, услышал голоса, но звука не было, только воздух слегка колебался. На самом деле никто не осмеливался заговорить. Норберто изо всех сил зажмурился, а потом распахнул выскакивающие из орбит глаза. «Святые небеса, – забормотал он, – Отче наш, прости нам наши грехи и прегрешения братьев наших. Мы только чилийцы, Господи, мы невинны, невинны». Он говорил ясно и четко, и голос его не дрожал. Разумеется, его услышали все. Некоторые засмеялись. За моей спиной послышалась злобная гнусная брань. Я обернулся и поискал взглядом говоривших. Лица заключенных и карабинеров кружились, как в колесе фортуны, бледные и размытые. И наоборот, лицо Норберто оставалось неподвижным, будто ось вращения. Симпатичное лицо, словно уходившее в землю. Время от времени он подпрыгивал на месте, как несчастный пророк, присутствующий при давно объявленном и вызывающем страх явлении мессии. Самолет с ревом пронесся над нами. Норберто обхватил себя руками, вцепившись в собственные локти, словно умирая от холода.
Я увидел летчика. На сей раз он действительно приветствовал нас. Он напоминал каменную статую, восседающую в кабине. Небо темнело, ночь была готова поглотить все вокруг, облака уже были не розовыми, а черными с красной каймой. Когда он пролетал над Консепсьоном, его симметричные очертания напоминали кляксу Роршаха. [17]
Теперь он написал всего одно слово, гораздо крупнее, чем все ранее написанное, и, как мне показалось, точно над центром города: ЗАПОМНИТЕ. Потом самолет задрожал, стал терять высоту, словно собираясь спикировать на крышу здания, будто бы летчик отключил двигатели и собирался дать первый урок, который нам следовало усвоить. Но это длилось всего мгновение, ровно столько, сколько потребовалось ветру и ночному мраку, чтобы стереть последнее написанное слово. Затем самолет исчез.
Несколько секунд все молчали. С другой стороны ограды послышался женский плач. Норберто, абсолютно спокойный и безмятежный, словно ничего не произошло, разговаривал с двумя юными заключенными. Мне показалось, что они спрашивали его совета. Боже мой, просить совета у сумасшедшего. За моей спиной слышались неразборчивые комментарии. Что-то случилось, но в реальном мире не случилось ничего. Два профессора рассуждали о пропагандистской кампании, проводимой Церковью. «Какой Церковью?» – спросил я. «Что значит «какой», – ответили они и отвернулись от меня. Я им не нравился. Очнулись карабинеры и велели нам строиться на вечернюю поверку. На дворе у женщин другие голоса давали команду строиться. «Тебе понравилось?» – спросил Норберто. Я пожал плечами. «Знаю только, что никогда не смогу забыть все это», – сказал я. «Ты понял, что это был «мессершмит»?» – «Если ты так говоришь, значит, так и есть», – ответил я. «Это был «мессершмит», – сказал он, – и он вернулся с того света». Я похлопал его по спине и сказал, что наверняка все так и было. Колонна зашевелилась, мы возвращались в спортзал. «Он писал на латыни», – сказал Норберто. «Да, – ответил я, – но я ничего не понял». – «А я понял, – сказал Норберто, – не зря же я несколько лет преподавал типографское дело. Он говорил о Сотворении мира, о воле, о свете и тьме. «Lux» значит «свет». «Tenebrae» значит «тьма», «Fiat» значит «создал». Создал свет, понимаешь?» – «А по-моему, «Fiat» – это итальянский автомобиль», – сказал я. «Ты не прав, товарищ. А в конце он пожелал нам всем удачи». – «Ты думаешь?» – переспросил я. «Да, всем без исключения». – «Он поэт», – сказал я. «Да, образованный человек», – отозвался Норберто.
3
То первое сольное поэтическое выступление Карлоса Видера в небе над Консепсьоном мгновенно вызвало восторженное поклонение некоторых мятежных духом чилийцев.
Его сразу стали зазывать на другие представления воздушных каллиграфов. Поначалу робко, а потом со свойственной солдатам и некоторым джентльменам прямолинейностью тех, кто всегда, раз увидев, сумеет отличить истинное произведение искусства, даже ничего в нем не понимая, выступления Видера принялись тиражировать на всяких юбилейных мероприятиях и празднествах. В небе над аэродромом Лас Тенкас, специально для высших офицерских чинов, бизнесменов и членов их семей – дочери на выданье обмирали по Видеру, а замужние умирали от тоски, – он нарисовал за несколько минут до того мгновения, когда ночь накрыла все своим плащом, звезду, такую же, как на нашем флаге, сверкающую и одинокую на аскетичном пустынном горизонте. Несколько дней спустя, на сей раз выступая перед разношерстной и демократичной публикой, бродившей туда-сюда под парусиновыми навесами военного аэродрома Эль Кондор, он начертал поэму, которую просвещенный и читающий зритель определил как эстетскую. (Уточняю: ее начальные строфы не отверг бы и Исидор Ису, [18]а неизданный финал был достоин «Сарангуако». [19]) В одном из стихотворений он вспоминал в завуалированной форме сестер Гармендия. Называл их близнецами и говорил об урагане и чьих-то губах. И хотя уже в следующем четверостишии он противоречил сам себе, дотошный читатель наверняка счел бы их умершими.
В другом стихотворении он говорил о некой Патрисии и некой Кармен. Последняя, скорее всего, была поэтессой Кармен Вильягран, пропавшей в начале декабря. Согласно показаниям ее матери на заседании Церковной комиссии по расследованиям, дочь сказала ей, что договорилась встретиться с другом, ушла и больше не вернулась. Мать успела спросить, что это за друг. Кармен ответила с порога: поэт. Годы спустя Бибьяно выяснил, о какой такой Патрисии упоминалось в стихах. Судя по всему, речь шла о семнадцатилетней Патрисии Мендес, посещавшей литературную студию при Союзе молодых коммунистов и пропавшей в то же время, что и Кармен Вильягран. Разница между девушками бросалась в глаза: Кармен читала Мишеля Лейри [20]на французском, а ее семья принадлежала к среднему классу; Патрисия Мендес была моложе, обожала Пабло Неруду и происходила из пролетарской семьи. Она не училась в университете, как Кармен, хотя и мечтала когда-нибудь изучать педагогику. Пока что она работала в магазине электробытовых товаров. Бибьяно наведался к ее матери и смог прочитать в старой тетради в линеечку некоторые стихи Патрисии. Скверные, по мнению Бибьяно, в стиле плохого Неруды, эдакий коктейль из «Двадцати стихотворений о любви» и «Подстрекательства к никсонициду», [21]но, читая между строк, можно было почувствовать кое-что. Свежесть, удивление, желание жить. В любом случае, завершал свое письмо Бибьяно, никого не убивают за то, что он плохо пишет, а тем более если человеку не исполнилось и двадцати.