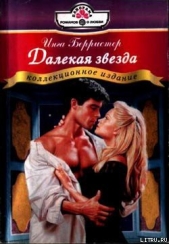Далекая звезда
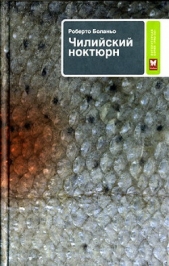
Далекая звезда читать книгу онлайн
«Я пишу, чтобы вспомнить прошлые истории и посмеяться над ними или превратить их в иные, придумав новый конец», – признавался Роберто Боланьо.
Эти слова писателя вполне можно отнести к обоим включенным в книгу произведениям, хотя ничего смешного в них нет. Наоборот, если бы не тонкая ирония Боланьо, они производили бы тяжелое впечатление, поскольку речь в них идет в основном о мрачных 70-х годах, когда в Чили совершались убийства и пропадали люди, а также об отголосках этого времени, когда память и желание отомстить не дают покоя. И пусть действующими лицами романов являются писатели, поэты, критики, другие персонажи литературной и окололитературной среды, погруженные в свой замкнутый мир, – ничто не может защитить их от горькой действительности.
Многообещающий молодой поэт Альберто Руис-Тагле в годы диктатуры превращается в Карлоса Видера, чье «имя всплывает в судебном расследовании по делу о пытках и пропавших без вести», и, хотя правосудие над ним так и не свершилось, возмездие настигает его в лице пожилого человека – бывшего полицейского при демократическом правительстве Альенде.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И сестры встают, а может, встает одна Вероника и ищет в большой отцовской библиотеке, и возвращается с книгой Касереса «По дороге большой полярной пирамиды», опубликованной, когда поэту было всего двадцать. Сестры Гармендия, а может, только Анхелика, как-то слышали, что, дескать, собираются переиздать собрание сочинений Касереса – легенды нашего поколения, поэтому неудивительно, что Руис-Тагле вспомнил о нем (хотя у поэзии Касереса нет ничего общего со стихами сестер Гармендия; у Виолеты Парра – да, у Никанора – да, но не у Касереса). А он вспоминает Энн Секстон, Элизабет Бишоп и Дэниз Левертов [11](поэтесс, которых любят сестры Гармендия и которых они как-то переводили и читали свои переводы в студии, к глубокому удовлетворению Хуана Штайна). А потом все вместе смеются над ничегошеньки не понимающей тетей, и едят домашнее печенье, и играют на гитаре, и кто-то замечает служанку, которая смотрит на них, стоя в темном коридоре и не решаясь войти, а тетя говорит: да иди же сюда, Амалия, не дичись. И служанка, привлеченная музыкой и шумным весельем, делает два шага, только два шага, а потом наступает ночь, и вечеринка заканчивается.
Несколько часов спустя Альберто Руис-Тагле, хотя мне уже следовало бы называть его Карлосом Видером, поднимается.
Все спят. Возможно, он спал с Вероникой Гармендия. Это не важно. (Я хочу сказать, уже не важно, хотя конечно же в то время, к нашему несчастью, это было очень даже важно.) Могу утверждать, что Карлос Видер с уверенностью лунатика встал и в тишине обошел дом. Он ищет комнату тети. Его тень скользит по коридорам, где на стенах, вперемешку с глиняными тарелками и местной керамикой, развешаны картины Хулиана Гармендия и Марии Ойярсун (мне кажется, Насимьенто славится своим фаянсом или керамикой). Как бы то ни было, Видер очень осторожно открывает двери. Наконец, он находит комнату тети на первом этаже, возле кухни. Наверняка напротив располагается комната служанки. Как раз когда он скользнул в глубь комнаты, послышался шум приближающегося к дому автомобиля. Видер улыбнулся и заторопился. Одним прыжком он достигает изголовья кровати. В правой руке он сжимает крюк. Эма Ойярсун безмятежно спит. Видер выдергивает подушку и закрывает ей лицо. В следующее мгновение он одним движением вспарывает несчастной горло. В эту самую минуту автомобиль тормозит около дома. А Видер уже влетел в комнату служанки, но кровать пуста. Какую-то секунду Видер не знает, что делать: он хочет измолотить кровать пинками, вдребезги разбить старый ободранный деревянный комод, где свалены вещи Амалии Малуэнды. Но это длится всего секунду. И вот он уже в дверях, дышит ровно и спокойно и уступает дорогу четверым мужчинам. Они приветствуют его движением головы (с явным уважением), глазами наглыми и непотребными обшаривая полумрак дома, ковры, жалюзи, будто желая сразу, с порога присмотреть, где будет удобней всего спрятаться. Но они не собираются прятаться. Они ищут тех, кто прячется от них.
И вслед за ними в дом сестер Гармендия вступает ночь. А еще минут через десять – пятнадцать, когда они уходят, уходит и ночь. Вот так, сразу: ночь вошла – ночь вышла, порывистая и внезапная. Тела так никогда и не обнаружат. Впрочем, нет – одно тело найдут годы спустя в братской могиле. Это будет тело Анхелики Гармендия, моей обожаемой, несравненной Анхелики Гармендия, только одно тело, чтобы доказать, что Карлос Видер человек, а не божество.
2
В те дни, когда шли на дно последние спасательные шлюпки Народного единства, я попал в тюрьму. Обстоятельства моего ареста банальны, если не гротескны, но сам факт того, что я оказался именно там, а не на улице или в кафе, и не сидел закрывшись у себя в комнате, не желая вставать с постели (что было бы наиболее вероятно), позволил мне присутствовать на первом поэтическом представлении Карлоса Видера, хотя тогда я еще не знал, кто такой Карлос Видер, как не знал и того, какая судьба постигла сестер Гармендия.
Это произошло вечером – Видер любил сумерки. Мы, заключенные Центра «Ла Пенья», всего около шестидесяти человек, спасались от скуки, играя в шахматы или просто болтая, сидя во дворе пересыльной тюрьмы в окрестностях Консепсьона неподалеку от Талькауано.
По небу, еще полчаса тому назад совершенно безоблачному, полетели на восток лоскуты облаков – странной формы, похожие на булавки или сигареты. Поначалу, проплывая над побережьем, они были черно-белыми, потом заворачивали в сторону города и розовели и, наконец, поднимаясь вдоль реки, меняли цвет на блестящую киноварь.
Уж не знаю почему, но в тот момент мне казалось, что я был единственным заключенным, смотревшим на небо. Возможно, потому, что мне было девятнадцать.
Из-за облаков медленно показался самолет. Сначала это было пятнышко размером с комара. Я прикинул, что после облета побережья он возвращался на находившуюся неподалеку воздушную базу. Потихоньку, но как-то очень легко, без усилий, будто планируя в воздухе, он приближался к городу, плутая меж цилиндрических облаков, зависших высоко-высоко, и игловидных туч, мчавшихся вслед за ветром, почти касаясь крыш.
Казалось, самолет летел так же медленно, как тучи, но я быстро понял, что это всего лишь оптический эффект. С шумом, напоминающим шум сломанной стиральной машины, он пролетел над Центром «Ла Пенья». Я сумел различить фигуру пилота, и на мгновение мне показалось, что он поднял руку и попрощался с нами. Потом самолет задрал морду, набрал высоту – и вот уже он летит над центром Консепсьона.
И там, на высоте он начал писать на небосводе свою поэму. Вначале я подумал, что летчик сошел с ума, и нисколько не удивился. Сумасшествие не было чем-то исключительным в те дни. Я думал, что он кружит в воздухе, ослепленный отчаянием, и вот-вот бросится с высоты на какую-нибудь площадь или здание – и разобьется вдребезги. Но в следующую минуту, будто порожденные самими небесами, на небосводе возникли буквы. Буквы, четко выведенные серо-черным дымом на огромном экране розовато-синего неба, при взгляде на которые глаза смотрящего словно превращались в льдинки. IN PRINCIPIO… CREAVIT DEUS… CGELUM ET TERRAM, [12]-прочел я как во сне. У меня создалось впечатление – или возникла надежда, – что это всего лишь рекламная кампания. Я засмеялся. А самолет возвращался в нашу сторону, на запад, и опять принялся вилять из стороны в сторону и сделал еще один заход. На сей раз строка была гораздо длиннее и протянулась до южных окраин города. TERRA AUTEM ERAT INANIS… ET VACUA… ET TENEBRAE ERANT… SUPER FACIEM ABYSSI… ET SPIRITUS DEI… FEREBATUR SUPER AQUAS… [13]
На мгновение показалось, что самолет скрылся на горизонте, улетел в сторону Кордильера-де-ла-Косты или Кордильера-де-лос-Андес, клянусь, не знаю, куда именно, куда-то на юг, в сторону лесов, но потом возвратился.
Теперь уже почти все в Центре «Ла Пенья» смотрели на небо.
Один из заключенных по имени Норберто, потихоньку терявший рассудок (по крайней мере, такой диагноз ему поставил другой заключенный, психиатр-социалист, которого позже, как я слышал, расстреляли в полном рассудке и твердой памяти), попытался взобраться на ограду, отделявшую двор, где содержались мужчины, от двора, где были женщины, и закричал: «это «Мессершмит-109», истребитель «мессершмит» из люфтваффе, лучший истребитель 1940 года». Я внимательно посмотрел на него, потом на остальных заключенных, и мне показалось, что все они погружены в прозрачный серый мрак, будто бы Центр «Ла Пенья» растворился во времени.
У дверей в спортивный зал, на полу которого мы спали по ночам, двое тюремщиков перестали болтать и уставились на небо. Все заключенные стоя смотрели туда же, побросав свои шахматы, забыв подсчитывать, сколько дней им осталось сидеть за решеткой, отложив на потом дружескую исповедь. Сумасшедший Норберто хохотал, по-обезьяньи уцепившись за ограду, и говорил, что вернулись времена Второй мировой войны и ошибаются те, кто думает, что это Третья, – нет, это именно Вторая, она вернулась, вернулась, вернулась… Нам, чилийцам, повезло, мы благословенный народ, мы приветствуем ее, говорим «добро пожаловать», – твердил он, и белая, очень белая на контрастном сером фоне слюна летела ему на подбородок, стекала на воротничок рубашки, расплываясь большим мокрым пятном на груди.