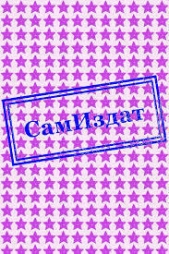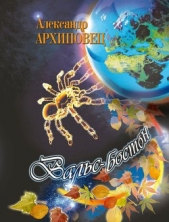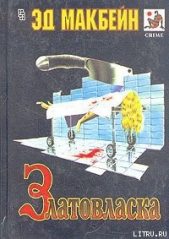Вальс с чудовищем

Вальс с чудовищем читать книгу онлайн
Книга лауреата премии «Русский Букер» Ольга Славниковой включает роман «Один в зеркале» и новые рассказы. Собранные под одной обложкой, эти произведения удивительным образом перекликаются друг с другом. Главный герой романа – талантливый математик, буквально разрывается между научным поиском и безнадежной любовью к заурядной студентке; герой рассказа «Басилевс» – уникальный чучельник, по сути, ученый-натуралист, увлечен женщиной, которая его откровенно использует. Чудовищами становятся для них самые близкие люди – их возлюбленные…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На секунду ему, погруженному в плывущую магму под крепко зажмуренными веками, действительно помстилось, будто он остался совершенно один; разлепив глаза, Антонов осторожно осмотрелся. Рядом с ним бесчувственно покачивались две большие матерчатые куклы, то наваливаясь на него неживым и легким ватным весом, то выпрямляясь на повороте, глядя вперед накрепко пришитыми стеклянными глазками. У куклы-мальчика по имени Валера лицо для изображения морщин было простегано на манер одеяла машинной строчкой, у куклы Наташи с ноги упала туфелька и кое-как сработанная ступня походила на полотняный валенок – зато и туфли, и сумка, и бриллианты на растопыренных пальцах, и лежавший в сумке револьвер были самые настоящие. Впереди Антонов видел два неодинаковых по цвету велюровых затылка и пухлое плечо с вышитым гладью синеньким цветком. Должно быть, эти передние болванчики были заводные – они то и дело поворачивали друг к другу похожие на варежки толстенькие профили, и эти одновременные повороты были как-то согласованы с короткими, туда-сюда шатаниями руля, с поворотами и кренами наружного пейзажа, производившего при помощи столбов простейшие арифметические действия и странно поводившего вывесками, как бы переставляя невидимые ударения в квакающих, окающих, аукающих словах. Фасады одинаковых домов напоминали ткань, которую измеряют, плавно обкручивая вокруг деревянного метра (Антонову даже показалось, будто он слышит глуховатый стук подпрыгивающей на прилавке штуки материи, из которой на самом деле сшит весь этот приблизительный кукольный мир); вот мелькнул в полотняной палатке игрушечный продавец, балансирующий на весах какую-то желтую горку и пешечки гирек, и другой продавец, несколько более облезлый, демонстрирующий, среди ярких коробочек и тряпочек, миниатюрный карточный фокус. Вероятно, в основе всего лежал единый простенький механизм, крутившийся на нескольких стерженьках: казалось, стоит всмотреться повнимательнее, и поймешь, как он работает, вычислишь нехитрую периодичность действия игрушки. Впрочем, один разок марионетки попытались ожить: движения их бескостных, рыхло набитых рук напомнили Антонову перистальтику кишечника, и его едва не вывернуло, когда из суконного рта Валеры полез живой, мускулистый, похожий на лилово-розовый кактус, отвратительно мокрый язык.
Справившись с дурнотой, он сообразил, что бутафорский автомобиль движется уже по территории больницы: справа возникла очень правдоподобно сделанная психушка, на крылечке кукольная доктор Тихая, великоватая для дверей и окон, достающая капроновой прической до второго этажа, выполняла с механической расстановкой что-то вроде балетных упражнений, могущих быть воспринятыми и как пригласительные жесты. Тут же, в шерстяном свалявшемся ворсе газона, располагались игрушечные Достоевский, Чехов и Наполеон: на последнем красовалась свернутая из газеты треуголка, светлое шелковое брюшко полководца напоминало кошачье, а маленькая дамская нога, обутая в демисезонный сапожок, символически попирала детское измятое ведро. Вдруг механизм издал негромкий стонущий скрежет и замер: застыла, как корзина, с округленными полными руками над головой доктор Тихая, болванчики на передних сиденьях недоповернулись друг к другу, их клиновидные улыбки не достигли симметрии. «Приехали», – сам себе сказал Антонов и глубоко вдохнул шерстяной пронафталиненный воздух платяного шкафа или сундука. Зачем-то погладив себя по смокшей лысине, он неуверенно подергал дверной рычажок: неожиданно дверь подалась, и первое, что увидел Антонов, ступив ногою в нитяную и лоскутную траву, была приколотая острыми булавками к какой-то тесемке мелкая бабочка, совсем невзрачная с изнанки, где среди резких псевдолиственных прожилок проступали как бы прорисованные простым карандашом лицевые каемки, круглые глазки. Вдруг, почуяв на траве надвигавшуюся, будто колючая щетка, антоновскую тень, бабочка снялась, закувыркалась в воздухе, точно кто дул на нее, как на пламя свечи, – и как только до Антонова дошло, что бабочка живая, на него нахлынули звуки, краски, воздух широко раскрылся во множестве запахов, в пышности нагретого кислорода. Наталья Львовна стояла по ту сторону машины, заглядывая в раскрытую пудреницу, с ярким отсветом круглого зеркальца на пудреной щеке, бодрый Валера жестами регулировщика встречал подкатывающий с деликатным шорохом огромный джип, откуда сразу выскочил вперед кроссовками плотненький боец. Все происходило на самом деле, не осталось и следа недавнего абсурда. «Я думаю, чего это он выбросил на ходу, – деловито проговорил боец, вытирая о штаны и подавая Валере роман, набравшийся при падении какого-то сорного сена. – Я подумал, ага, разбираться едем, мало ли что, взял да подобрал». – «Умница, – брезгливо похвалил Валера молодцеватого геракла и иронически покосился на Антонова. – Так я возьму почитать? Мне тоже интересно, что сегодня издают». Антонов коротко кивнул. Его разрешения, собственно, не требовалось, Он мог только оценить деликатность бывшего врага, оказавшегося все равно своим среди бескнижного, все более пустеющего мира, окутанного тонким сизым маревом болотного пожара. Больничные двери гордо высились перед Антоновым на белом крыльце; оставалось только войти.
XXVI
Пo-моему, всем уже понятно, что сейчас произойдет. От романа, чью толщину усталый читатель наверняка промерил на глазок в шершавых, как распил доски, бумажных сантиметрах, чей верхний угол, шуркая, завил нетерпеливым пальцем, остались какие-то жалкие две странички, которые можно держать большим и указательным, будто крылья пойманной бабочки, не нащупывая между ними ничего, кроме плоской черно-белой пустоты. Наберитесь терпения: осталась только бумага, которую при желании можно считать оберточной. Может, это и всего-то одна страничка, тем более бесплотная, что несет на весу, почти на воздухе, две стороны остаточного текста; может, ее, эту бестелесную вещь, стоит просто уничтожить, вырвать и смять в легкий угловатый ком, утешительно похожий на игрушку. В общем, кто не хочет, тот пусть не дочитывает; я же считаю необходимым до конца остаться рядом со своим героем, который сейчас поднимается на четвертый этаж хирургического корпуса, потрясенный фактом, что совершенно забыл и про памперсы, и про смешанный с водкой гигиенический шампунь. Впрочем, сквозь этот житейский стыд и сквозь жалкую, слабую радость (бледное подобие той, с какою Антонов, бывало, плыл на свидание со своей неверной первокурсницей) просвечивает, будто сквозь наполненную млечной нежностью бумагу, какая-то остановившаяся правда, подозрительно похожая на зеркально вывернутое, набранное невиданным шрифтом (каждая буква будто лента Мёбиуса) слово «Конец».
На четвертом этаже дежурная медсестра – уже не вчерашняя, похожая на Володю Ульянова, а новая, с, плохо завитой челкой, лезущей в квадратные очки, – вдруг испугалась Антонова точно так же, как давеча Наталья Львовна, и так же побледнела, отчего веснушки, крупные, будто пупырышки мимозы, букетом проступили на усталом личике. Нечувствительно отделившись от общества, сразу набившегося в палату номер четыреста шестнадцать, Антонов тупо подергал Викину дверь, потом рванул сильней, ощутив ее форму высокого и шаткого прямоугольника, – но дверь стояла перед ним точно примерзшая к стене. Собственно, Антонов знал заранее, что так оно и будет, и теперь любые обычные обстоятельства, могущие удовлетворительно объяснить отсутствие Вики в палате, представлялись ему чем-то таким же недостоверным и фантастическим, как, например, оправдания студента, завалившего зачет. «Мы не могли до вас дозвониться… – услышал Антонов за спиною дрожащий, в несколько ниточек, голос медсестры. – Понимаете, у больной началась аллергия на лекарство. Понимаете, Ваганов приезжал, но опоздал. Было поздно. Только хочу сказать, что больная не мучилась и не приходила в сознание, она не знает, что умерла». Бедная медсестричка, которую Антонов готов был пожалеть, потому что сейчас, в этот лишенный тверди миг, можно было пожалеть (или казнить) любого и не ошибиться, говорила что-то еще; из соседней палаты тоже слышались бубнящие толстые голоса, среди которых единственный женский казался чище и ценнее остальных. «Я хотел бы увидеть… побыть…» – тоже произнес Антонов довольно отчетливо. «Конечно, конечно, – заторопилась медсестричка. – Вообще-то не полагается, но профессор сказал, когда вы приедете, чтобы вам помогли и все такое… Вам накапать успокоительного?» – «Нет, я не хочу», – еле слышно ответил Антонов, чувствуя, что пол под его ногами, чтобы облегчить ему первые шаги от этой запертой двери, приобрел ощутимый уклон.