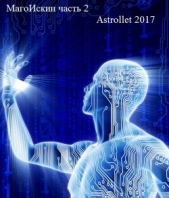Хороший Сталин

Хороший Сталин читать книгу онлайн
По словам самого автора «Хорошего Сталина», эта книга похожа на пианино, на котором каждый читатель может сыграть свою собственную мелодию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Еще более сложная дилемма встала перед отцом, когда приехавший с официальным визитом во Францию Леонид Ильич Брежнев решил наградить отца орденом Дружбы народов. По закону ЮНЕСКО международный чиновник не имел права принимать награды любого государства, включая свое собственное. Отец знал, что Леонид Ильич важнее ЮНЕСКО, и согласился принять орден за закрытыми дверьми в конспиративной обстановке посольства. Брежнев вручил отцу орден и, по своему обыкновению, полез целоваться в губы. Отец добродушно рассказывал мне тогда же, что в самый последний момент он увернулся от царского поцелуя взасос, подставив Брежневу пахнущую французским лосьоном щеку.
Когда отец вышел на пенсию, он сдавал деньги, которые ему выплачивало ЮНЕСКО, в советскую казну. Мне стоило немало усилий уговорить его в конце 1980-х годов оставлять эти деньги себе, отправляя их на мой парижский счет. Отец с трудом пошел на это, тем самым спасая себя и маму от полунищенского постсоветского существования, хотя он, будучи начальником, срезал в ЮНЕСКО пенсии, не подозревая, что это коснется его самого. На старости лет он живет на деньги, которые, в сущности, выплачивают его западные враги, против кого он жестоко боролся. Его непрактичность вызывает у меня смешанные чувства. Когда он стал работать на высоких постах за границей, советское начальство заинтересовалось им: он мог устроить их детей на работу в международных организациях. Заместительница Промыслова, мэра Москвы, предложила отцу участок в Барвихе. Нужно было построить один домик двум старухам, которые не имели наследников, другой — себе. Как я ни уговаривал отца, он отказался, заявив, что два дома строить не желает. Этот участок по нынешним временам стоит как минимум миллион долларов. Когда отец от него отказался, вице-мэр, решив, что предлагает мало, предложила отцу целую усадьбу с участком величиной в гектар неподалеку от Николиной горы. Мы поехали туда вместе с отцом. Это было сказочное поместье, с лесом и бурным ручьем, протекавшим через территорию. Помещичий дом с колоннами, в шестнадцать комнат, был построен в первой половине девятнадцатого века. Мы оставили машину у дороги и поднялись к дому. Отказаться от него — усадьба теперь, наверное, стоила бы не меньше двух-трех миллионов долларов — мог только полный идиот. Отец отказался. При этом он устроил сына вице-мэра на работу в международное ведомство просто так. Святой или простофиля? Или все вместе? Папа был святым коммунистом. Он поздно купил машину, уже будучи послом; еще позже построил скромную дачу, вокруг которой стрижет газон, — роскошь не была его стилем.
Когда Молотов уже очень устал от жизни и собрался умирать, он попросил вызвать к себе Шеварднадзе, который при Горбачеве был министром иностранных дел, для отчета. Сквозь личину отверженного пенсионера проступило подлинное лицо хозяина. Думаю, что во сне мой папа нередко отправляется с бумагами к Молотову. Когда у Молотова было хорошее настроение, он спрашивал папу:
— Ну, как дела, Ерофеич?
Наверное, то же самое происходит и в папином сне.
Меня спасла любовь. Моя преданная любовь к Европе нашла свое воплощение. На первом курсе университета я влюбился в свою будущую жену. Она была из Варшавы. Мы слушали вместе курс по древнерусской литературе в 66-й аудитории. Она не была похожа на советских студенток. Мы так красиво курили на Черной лестнице, накинув на плечи невероятные для той поры дубленки, что нас считали самой красивой парой университета. Наверное, так оно и было. Она угощала меня польскими сигаретами «Кармен», в которых была смесь американского табака. Она ездила с отцом и братом на волшебном сером «Мерседесе-190» с красными дипломатическими номерами: ее отец работал в польском посольстве.
Я стоял на углу улицы Алексея Толстого, у черной громады посольства с красивым флагом, с огромными освещенными окнами, за которыми шла роскошная жизнь, с гордым орлом на золоченой табличке, прикрученной к зданию, и ждал, когда она выйдет оттуда в узком синем платье с белым пояском, на концах которого сияли позолоченные монетки, вежливо кивнув охранявшему посольство милиционеру. Мы целовались в подъездах и в иномарках, которые ее друзья брали напрокат у родителей. Мы покупали книжки польской поэзии в целлофановых суперобложках в магазине «Дружба». Она так легко и нежно произносила: Гал-чинь-ски. Ее польское «л» с перекладиной стоило всех стихов. Ее «чут-чуг» переполняло меня любовью. Она смеялась надо мной за то, что я редко стригу ногти, и я считал, что это — глас Европы. Жизнь состоит из паутины мелких и крупных комплексов, на безнадежное преодоление которых она и расходуется.
В отношениях с женщинами отец всегда неожиданно оказывался ближе, чем это можно было предположить. В этом его загадка. У моего папы была одна-единственная страсть — она называлась «теннис». Теннис — позывные его жизни. Зимой он играл на закрытом корте в правительственном доме на набережной, над Театром Эстрады. Это считалось так престижно, что дальше некуда. Папа купил себе в Париже специальный чемоданчик для ракеток и теннисной одежды: очень длинный и синий, с маленьким серебристым замочком, который русский вор мог бы перегрызть одним зубом. Чемоданчик поражал воображение москвичей, которые не знали, что такие вещи могут существовать в природе. На улице Горького к папе подошел человек и предложил ему продать «свой саксофон». Папа очень смеялся, когда рассказывал об этом случае. Я сам иногда старшеклассником, в тайне от родителей, надев папину бордовую «болонью», носил этот чемоданчик по улице, просто так. Теннис был для папы священным временем. Он уезжал и пропадал. Он вообще имел способность пропадать. После тенниса он принимал душ. От его белых шерстяных носков вкусно пахло. В теннис он играл мягко. В теннисе, наверное, лучше всего выражался его мужской характер. Теннис для него был важнее тенниса — с этим надо было как-то смириться. Его подачи были всегда не очень сильными, но точными. Вторая подача не слишком отличалась от первой. Он не боялся играть у сетки. Он не любил грубой, непрофессиональной игры, но всегда на корте был терпелив к любому партнеру и ценил успехи других.
ПАПА. Bien joué! [16]
Я залезал на судейскую вышку, в ритм игре водя головой, но папа любил сам считать, и ему не нравилось, когда при счете 30 : 30 кто-нибудь говорил «ровно» и уж тем более «город Ровно» или еще какую-нибудь подобную дичь. Меняясь с партнером по нечетным геймам сторонами площадки, он подходил к скамейке, где лежал чемоданчик, и тщательно вытирал пот с лица особым теннисным полотенцем. Мы с женой опаздывали в Большой театр. Отец взялся нас подбросить, но, доехав до Манежа, высадил: он опаздывал на теннис. Из-за него мы первое отделение провели на галерке. Теннис был его свободой. Другой свободы он не знал. Теннис был его магическим шаром, в котором при желании можно увидеть всякие призрачные очертания, неясные женственные фигуры, странные положения, как в «Саду наслаждений» Босха. Возможно, именно по ассоциации с Босхом мне снился сон: у нас с папой — общая любовница. Блондинка снабжает меня дефицитной бумагой для Эрики, уводит в лес на Чкаловской и, улегшись в сосновую хвою, расстегивает свое импортное боди на влажной промежности. Она ищет не удовлетворение, а запретное сравнение, ей нравится ее рискованное место в нашей жизни, ей хочется обсуждать мою маму с отчужденным уважением, похожим на эротическое превосходство, и я проигрываю, по своему неумению, в этом матче.
Папа отдал меня учиться теннису на стадион «Динамо» к бывшей чемпионке СССР Чувыриной, я ездил на метро с ракеткой, три раза в неделю прилежно стучал об стенку, мне поставили удар, я сыграл на первенство Москвы среди юношей, но теннис не стал моим магическим шаром. Мама принимала теннис папы как данность. Она не ревновала — она только беспокоилась, иногда до слез: куда он делся? Мама проклинала его теннис, когда он опаздывал к воскресному обеду, который по своей ритуальности и вкусным блюдам (особенно были вкусны прозрачные щи со свежей капустой, которые мы с папой обильно перчили, и, переглянувшись, выпивали под них стопку водки) маме удалось приравнять к теннису. С тенниса он обычно приезжал бодрым, со сверкающими глазами, немного, однако, задумчивым, с каким-то не слишком семейным лицом, но за обедом лицо постепенно приобретало семейные очертания. Мне кажется, что нас с отцом сближает не только физическое подобие, похожее порою на патологию, но также и то, что в жизни мы много врали по одному и тому же поводу.