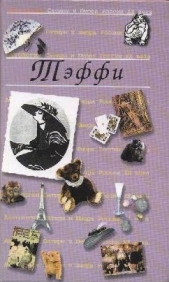Новый Мир. № 3, 2000

Новый Мир. № 3, 2000 читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А вот «свидетели» (из этических соображений фамилии не называю):
«Битюцкого П. М. знаю как человека с явными антисоветскими взглядами, которые он высказывает при всяком удобном случае».
«Так называемый, по мнению Битюцкого, социализм нельзя строить на горбах рабочих, как сейчас… Я сам, дескать, старый земец и за свободу, но не такую, как существует при настоящей власти».
«Зубврача Битюцкого знаю как ярого монархиста и черносотенца. Он везде ведет антисоветскую агитацию. Социалистическое строительство при таких трудностях, по мнению Битюцкого, невозможно. Единственный выход — предоставить широкое поле деятельности частному капиталу, отменить монополию».
«Битюцкий — доктор — явно контрреволюционный тип. Проповедует пациентам, приезжающим из деревень, не идти в колхозы, т. к. там управляют коммунисты — воры и плуты. Лучше, мол, сжечь имущество, чем отдать этой сволочи».
«Враги народа» Битюцкий, Золотарев, Альбицкий… Это они в самый разгар тоталитарного шабаша поднимают голос в защиту русского человека, его права на достойную жизнь. Это они, скромные провинциалы, своим искренним протестом и сердечной болью за Россию служат справедливости, перекликаясь с предупреждениями «одного из святых столетия», мятежного князя П. А. Кропоткина о пагубности диктатуры партии, о социализме, который «обратится в проклятие».
Расту без отца, но он с нами: в письмах, вещах, фотографиях, в его знакомых, в маминых рассказах. Расту под влиянием улицы; мама беспокоится за меня.
Когда я родился, отец отбывает ссылку в Казачинске на Енисее. Мама решает, что я буду не Битюцкий-последний, а Градусов-первый и единственный — из опасения за мою будущую судьбу.
У всех мальчишек клички, как у большевиков-подпольщиков. А когда на уроке узнаем, что у Ленина — ух ты! — были десятки партийных кличек, наша фантазия разыгрывается. Прозвища самые невероятные, невзначайные, но прилипчивые и меткие. В них зоркость пацанов — заречан, приметливость, подковырка.
Володя Тройничков — наш сосед. Живет напротив, с бабушкой, сирота. Старший брат Григорий — сгинул в тюрьме. Потому старшие уважают Володю, доверяют и допускают до себя, когда с матерщиной режутся на лужайке в карты, хвастаясь своими приключениями, он — их «кореш». Сызмала слышит площадную ругань, пытается подражать. Попервоначалу получается «кбули». Это веселит тех, кто постарше, — вот они и прозывают его Вова-куля.
Мы тоже перекидываемся в картишки, самодельные. Не менее азартно, на щелбаны. Играем на тройничковском крыльце, чтобы не увидели родители. Сначала в «пьяницу», «подкидного», потом в «козла», «буру», «двадцать одно». Когда Володя бьет масть, приговаривает: «Ваши не пляшут!» — и смачно шлепает карту. Тюрьма у ершовских — понятие почтительное: «Кто там не был, будет, а кто был, не забудет». Или: «Лепеху серую, колесики со скрипом я на тюремные оладьи променял». Ведь напророчил сам себе: угодил на восемь лет в Воркуту.
А пока Вова-куля прибаутничает за картами: «Ночь-матка, все — гладко», «Острог — мой дом, Сибирь — родина».
Гоняем «козла». Попарно: я с Вовой-кулей против Лехи и Вовки-немца. Еще «пару написать» — и победа наша. Куля тасует карты. «Ну, Леха, запрашивай. На порчине сера вошь — выбирай, котору хошь». — «Давай верх и низ». Вова-куля ликует, потому что смухлевал и все козыри у нас: «Наши вам подштанники всем на утиральники!» Смеемся.
Так и жили.
…Родословная Градусовых обрывается на прадеде Иване, священнике одного из ярославских приходов. Со слов мамы знаю, что в этой семье детей косила чахотка. Старший из них, мой дед Евгений Иванович, уцелел чудом, возможно потому, что рано уехал из дома — учиться.
Зима, вечер, мороз на дворе крепчает. Мама затапливает печку. Садится подле, прикрывает дверцу. Огонь гудит, принимаясь за бересту, лижет поленья. Они сухо потрескивают, стреляют искрами. Я притуливаюсь рядышком, прошу почитать — уж в который раз! — любимого «Кавказского пленника». Я знаю его почти наизусть, но всякий раз переживаю за Жилина и Костылина, восторгаюсь смелой помощью татарской девочки Дины.
Мамина колыбельная…
Когда болею и мечусь в кроватке от жара, мама определяет температуру, касаясь губами лба, расхаживает по комнате и напевает.
Идет к окну:
Возвращается к печке:
К окну:
Опять к печке:
Бессонные святые материнские ночи, чудесные стихи Майкова…
В отце потукивал творческий живчик.
Вот как вспоминал об этом А. А. Золотарев:
«Как чудесно рассказывал Павел Михайлович о своем детстве! Я, бывало, заслушаюсь, да и все мы в тюрьме, в этапе и в ссылке жили его причудливо составленными — вроде Лескова — рассказами. И конечно, в нем билась литературная жилка. Да и все навыки его были литераторские. Так он имел свой архив, берег всякую писульку, имел записную книжку.
…Как я жалею теперь, что только часть, и самую малую часть, этих рассказов я успел записать. А сколько они принесли мне безгрешной радости!»
…Мама закончила гимназию с золотой медалью и поступила на Бестужевские курсы в Петрограде. Любовь ее к словесности не случайна: в семье зачитывались Тургеневым, Бальмонтом, Белым и Мережковским. А в 1919 году поступает на медфак Ярославского университета. Время страшное: по всей России студенческие «чистки».
«Собрали нас, — рассказывала мама, — в актовом зале. Зачитывают списки исключенных. Десятки фамилий: поповны, дети дворян, купцов, служащих. Вдруг слышу: Градусова Евгения. За академическую неуспеваемость и как социально чуждый элемент. Успеваю только крикнуть: „Первое — ложь, а со вторым — поспорим“. И — хлопаюсь в обморок. Еду к Луначарскому в Москву. В Наркомпросе принимает его заместитель Покровский. Восстанавливают. А между тем Ярославский университет закрывают. Пока добивалась, наших всех распределили по разным городам, поближе которые — Смоленск, Казань, Нижний… А мне уж Астрахань досталась. Вот где лиха хлебнула! Жили коммуной, все „социально чуждые“ — из Ростова-на-Дону, Петрограда, Москвы. Ходили в веревочных туфлях, разгружали баржи с дровами, чтобы с голоду не умереть. Бывало, придешь в анатомичку голодная, руки-ноги ноют после разгрузки, а там запах трупный, тошнит. Чтобы хоть как-то перебить его, закуриваешь. В минуту жизни трудную, когда нет папирос, махорочку занудную протянешь через нос. Вот и втянулась с тех пор».
Имена Надсона, Апухтина, Аверченко, Андреева, Ахматовой, Цветаевой я впервые слышу от мамы. Многое из них знала она наизусть.
У нас в доме тоже книги. Почетное место среди них занимает семейная хрестоматия, на титульном листе напечатано: «Дорогой памяти Князя Вячеслава Николаевича Тенишева, основателя Тенишевского училища, в знак общественной признательности посвящает свой труд составитель». И рукой мамы: «Книга семейства Градусовых». Самая любимая книга — домашняя, уютная. Между страницами кленовый лист, ландыш, поблекший ирис, вложенные мамой. Чего здесь только нет! Рассказы В. Одоевского, графа Л. Толстого, Ушинского, Кайгородского, Гусева-Оренбургского. Басни Измайлова, Хемницера, Крылова. Стихи Мятлева, Модзалевского, Никитина, Бальмонта, Фета, Майкова, Тютчева, Плещеева. И конечно же Пушкина, Лермонтова.