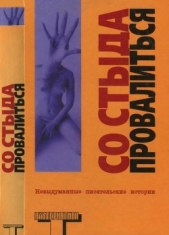Нечего бояться

Нечего бояться читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ногти на маминой отнявшейся руке продолжали расти с той же скоростью, что и на той, которой она показала большим пальцем вниз; потом она умерла, и, вопреки расхожему мнению, все десять пластинок расти перестали. Как и у папы, чьи ногти закруглялись на подушечки пальцев. У брата и ногти и зубы всегда были крепче моих — деталь, которую я объяснял тем, что, поскольку он ниже меня ростом, концентрация кальция в нем выше. Вполне возможно, что с научной точки зрения это чушь (и причина кроется в различных марках молочной смеси). Так или иначе, долгие годы я машинально стачиваю свои ногти о передние зубы, когда читаю, пишу, нервничаю, правлю это самое предложение. Может, уже пора прекратить этим заниматься, чтобы посмотреть, станут ли они закругляться на подушечки пальцев, когда отец призовет меня.
На кладбище Монмартра много зелени и кошек, и даже в жаркий парижский день здесь веет свежестью и прохладой; это небольшое, огороженное со всех сторон и весьма обнадеживающее место. В отличие от обширного некрополя Пер-Лашез это кладбище создает иллюзию — доступную лишь еще нескольким погостам, — что только те, кто здесь похоронен, и почили на земле; более того, что когда-то они жили совсем недалеко, возможно, прямо в домах, возвышающихся за оградой кладбища; и того более, что смерть, в конце концов, не такая уж и плохая штука. За пять месяцев до смерти Жюль Ренар писал: «Когда заглянешь как следует смерти в лицо, понять ее совсем не сложно».
Здесь лежат и мои мертвецы; и поскольку они по большей части писатели, то могилы их расположены в нижнем и, соответственно, более дешевом секторе. Стендаля похоронили здесь лет тридцать спустя после того, как он, «спускаясь со ступенек Санта-Кроче… испытал яростное сердцебиение», после того, как в нем «жизненные силы… иссякли» и он «шел в постоянном страхе упасть». Мы ведь хотим не только оставаться собой до конца, но и умереть в соответствии со своими ожиданиями? Стендалю выпало такое счастье. Пережив первый удар, он написал: «Полагаю, нет ничего смехотворного в том, чтобы упасть замертво на улице, коль скоро делается это ненамеренно». 22 марта 1842 года, отужинав в министерстве иностранных дел, несмехотворный конец, которого он искал, настиг его на мостовой рю Нёв-де-Капуцин. На его могиле написали «Арриго Бейль, миланец» — упрек французам, его не читавшим, и дань городу, где даже запах конского навоза трогал его чуть не до слез. И как человек, неплохо подготовившийся к смерти (он написал двадцать одно завещание), Стендаль сочинил и собственную эпитафию: Scrisse. Amo. Visse. Писал. Любил. Жил.
В нескольких шагах лежат братья Гонкур. «Два имени, под каждым даты жизни, они думали, этого будет достаточно. Hé! Hé!» Но могила их поразила меня совсем не этим. Во-первых, это семейное захоронение: двое детей погребены рядом со своими родителями. Здесь они прежде всего сыновья, а потом уже писатели; а семейное захоронение, возможно, как и семейная трапеза, — это «светское мероприятие», на чем так настаивала моя мать. Мероприятие, на котором действуют определенные правила, например: не хвастаться. Поэтому о славе братьев свидетельствуют лишь их медные барельефы в верхней части надгробия, где Эдмон и Жюль смотрят друг на друга после смерти, как и при жизни, в которой они были неразлучны.
В 2004 году у Гонкуров появился сосед. Старую могилу, срок аренды которой уже вышел, сменили новой с блестящим, черного мрамора надгробием, на котором возвышается скульптурный портрет — бюст ее обитателя. Новосела зовут Маргарет Келли-Лейбовиц, профессиональный псевдоним — мисс Блюбелл; это англичанка, которая обучила не одно поколение девиц в перьях, атлетического сложения и метр восемьдесят ростом крутить и вскидывать ножки перед похотливыми моноклями. На случай, если вы усомнитесь в ее значении, все четыре награды, которых она удостоилась — включая орден Почетного легиона, — высечены в черном мраморе, пусть и рукой дилетанта, зато в натуральную величину. Крайне разборчивые, глубоко консервативные, ненавидящие богему эстеты — рядом с парвеню, руководившей танцевальной труппой кабаре Лидо (и, очевидно, не считавшей, что ее имени будет достаточно)? Это, наверно, снижает планку здешних мест: Hé! Hé! Возможно, но не стоит так уж с ходу признавать иронию смерти (или посмеиваться вслед за Ренаром). Гонкуры в своем «Дневнике» обсуждают секс с откровенностью, способной шокировать даже в наши дни. Так что же может быть более уместно, чем посмертный менаж-а-труа с мисс Блюбелл, пусть и с вековой задержкой?
Когда хоронили Эдмона, на котором оборвался род Гонкуров, Золя произнес надгробную речь. Шесть лет спустя он, в свою очередь, упокоился здесь же, в могиле настолько пышной, насколько скромной была гонкуровская. Бедный мальчик из Экса, заставивший фамилию своего отца, итальянского эмигранта, звенеть по всей Европе, был похоронен под богатым, в стиле ар-нуво, завитком красновато-коричневого мрамора. Венчает его бюст писателя, который изображен таким свирепым, будто охраняет не только свой гроб и писательское наследие, но и все кладбище. Однако слава Золя была слишком велика, чтобы оставить его в покое даже посмертно. Всего через шесть лет французское правительство выкопало его тело, чтобы перезахоронить в Пантеоне. И здесь нам уже сложно будет отказать смерти в иронии. Представьте себе Александрин, которая выжила в ту ночь, когда по вине забитой трубы камина они надышались угаром. Вдовство ее длилось двадцать три года. Шесть из них она приходила к мужу на зеленый, прелестный Монмартр; а следующие семнадцать ей пришлось таскаться в холодный гулкий Пантеон. Потом и Александрин умерла. Но пантеоны созданы для знаменитостей, а не для их вдов, поэтому ее похоронили — о чем она наверняка знала заранее — в освободившейся могиле. А потом, в свою очередь, к мадам Александрин присоединились ее дети, а потом и внуки; всех их затолкали в склеп, покинутый патриархом, который и был причиной его, склепа, великолепия.
Мы живем, мы умираем, нас помнят — стоило бы сказать «только не запомните меня правильно», — нас забывают. Для писателей процесс забвения не имеет четких границ. «Что писателю лучше — забвение до смерти или смерть до забвения?» «Забытый писатель» — понятие относительное, оно может означать: вышедший из моды, исчерпавший себя, шитый белыми нитками, отвергнутый, воспринимаемый потомками как слишком поверхностный — или, если уж на то пошло, слишком высокопарный, слишком серьезный. Вот забытый по-настоящему — это куда интереснее. Сперва вас перестают печатать, и вы перемещаетесь в закрома букинистов и специализированных сайтов. Потом, если повезет, наступает короткое возрождение, одна-две вещи переиздаются; затем очередной спад интереса, период, когда редкие аспиранты в поисках темы для диссертации устало листают ваши страницы и гадают, зачем было столько писать. В итоге издательства про вас забывают, академический интерес исчерпывается, общество изменяется, человечество делает небольшой шаг по пути эволюции, движущейся к своей лишенной ясного смысла цели, с вершины которой мы будем видеться как бактерии и амебы. Это неизбежно. И в какой-то момент — по логике это должно произойти — у писателя появляется последний читатель. Я не взываю к жалости; этот аспект жизни и смерти писателя нужно воспринимать как данность. В какой-то момент между сегодняшним днем и смертью планеты через шесть миллиардов лет у каждого писателя появится его или ее последний читатель. Аудитория Стендаля, писавшего для «немногих счастливых», что его понимали, выродится до других, мутировавших, возможно, менее счастливых немногих, и в итоге до последнего счастливого — или заскучавшего — читателя. И для каждого из нас когда-нибудь оборвется последняя ниточка тех странных, невидимых и тем не менее глубоких и интимных отношений, которые связывают автора и читателя. В какой-то момент и мне достанется мой последний читатель. А потом этот читатель умрет. И хотя в великой читательской республике все равны, некоторые все же равнее других.