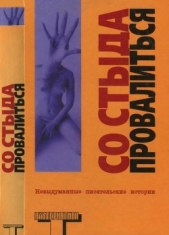Нечего бояться

Нечего бояться читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Кроме работ Вольтеррано было в Санта-Кроче еще одно полотно, взволновавшее Стендаля сверх всякой меры. Картина, на которой Христос сходит в чистилище (недавно отмененное Ватиканом), заставила его «трепетать два часа». Бейлю, работавшему тогда над историей итальянской живописи, сказали, что это Гуэрчино, которого он «искренне боготворил»; спустя два часа другой источник уже (безошибочно) приписывал картину Бронзино, «чье имя было мне неизвестно. Открытие это вызвало во мне глубокое раздражение». Однако касательно произведенного картиной эффекта никаких разночтений не наблюдается. «Я был растроган почти до слез, — написал он в своем дневнике. — Они и сейчас наворачиваются на глаза, пока я пишу эти строки. Ничего более прекрасного я не видел… Никогда еще не получал я такого удовольствия от живописи».
Столько удовольствия, что и в обморок можно упасть? И если не от Джотто (о котором речь и не шла, но которого ему впоследствии навязало извечное стремление выдать желаемое за действительное), то хотя бы от Вольтеррано и Бронзино совокупно? И тут перед нами встает итоговая проблема. Синдром Стендаля, выставленный на всеобщее обозрение и запатентованный — пусть и не обретший названия — в 1826 году, в 1811-м не обнаруживается. Знаменитый эпизод на паперти Санта-Кроче — с иссяканием жизненных сил и бешеным сердцебиением — тогда, видимо, показался настолько незначительным, что даже не был зафиксирован в дневнике. Самое близкое к возникшему позднее описанию мы находим после строчек: «Никогда еще не получал я такого удовольствия от живописи». Далее Бейль пишет: «Я смертельно устал, ноги мои распухли, новые ботинки нещадно жали — такие ощущения и Господом Богом во всей Его славе не дали бы восхититься как следует, но перед картиной с чистилищем я забыл и о них. Mon Dieu, как же она прекрасна!»
Таким образом, все достоверные свидетельства синдрома Стендаля, по сути, тают у нас на глазах. Но дело не в том, что Стендаль преувеличивал, сочинял небылицы и мастерски имитировал воспоминания (а Бейль глаголил истину). История стала куда более интересной. Только теперь это история о повествовании и памяти. Повествование: правда истории, изложенной писателем, содержится в итоговой, а не в первоначальной версии. Память: нам следует верить, что Бейль писал одинаково искренне и через два часа после событий, и через пятнадцать лет. Обратите внимание, что если перед картиной Бронзино Бейль «был тронут почти до слез», то через два часа, когда он писал о сивиллах, слезы уже «стояли у него в глазах». Время не только привносит в повествование вариации, оно еще и повышает эмоциональный накал. И пусть дотошное изучение снижает тон истории про Санта-Кроче, даже в своей оригинальной, неоткорректированной версии она повествует нам об эстетическом наслаждении, превзошедшем религиозный восторг. Усталость и тесные ботинки отвлекли бы Бейля от славы Господней, если бы он пришел туда молиться; но сила искусства преодолела и жмущий носок, и натирающий задник.
В репертуаре моего дедушки, Берта Сколтока, было только две шутки. Первая относилась к их с бабушкой свадьбе, пришедшейся на 4 августа 1914 года, и таким образом повторялась (без особых изменений) в течение полувека: «В тот день, когда мы поженились, началась война… — тяжелая пауза, — и она не прекращается до сих пор!!!» Вторая история рассказывалась как можно дольше и была про парня, который пришел в кафе и попросил сосиску в тесте. Он откусил кусочек и пожаловался, что в тесте нет сосиски. «Вы еще до нее не докусали», — объяснял хозяин кафе. Парень куснул уже полным ртом — та же история. «Так вы, значит, прокусали мимо нее», — следовал ответ, и дедушка повторял его еще несколько раз.
С тем, что у дедушки не было чувства юмора, мой брат согласен, но возражает, когда я добавляю, что он был еще и «скучный и слегка пугающий». Конечно, ведь дедушка любил своего первого внука и даже научил его затачивать стамеску. Правда, он не бил меня за то, что я повытаскивал его лук, но в доме всегда ощущалось его директорское присутствие, и я могу легко представить себе его недовольство. Например: они с бабушкой каждый год приезжали к нам на Рождество. Однажды в начале шестидесятых дедушка в поисках чтива подошел к книжной полке в моей спальне и, ничего не спрашивая, взял оттуда томик «Лолиты». Я до сих пор помню эту книгу в мягкой обложке, издательства «Корги», и вижу, как огрубевшие от работы в саду и в столярной мастерской руки моего деда методично заламывают корешок. Так же поступал и Алекс Бриллиант — хотя Алекс заламывал корешок так, будто это означало его интеллектуальное взаимодействие с содержанием книги; тогда как дед будто хотел продемонстрировать свое неуважение и к роману, и к его автору. На каждой странице, от «огонь моих чресел» и до «в том возрасте, когда мальчишки / Играют пушечкой своей», я ждал, когда он с отвращением отбросит книгу. Но к моему удивлению, этого он так и не сделал. Уж если начал, надо закончить: английское пуританство заставило его упрямо продираться сквозь эту русскую сказку об американском разврате. С беспокойством наблюдая за ним, я чувствовал себя так, будто сам написал этот роман, и теперь стоял, как разоблаченный охотник за нимфетками. Что он там мог себе подумать? В итоге он вручил мне книжку с корешком, испещренным белыми рубцами, и произнес: «Может, это и хорошая литература, но мне она показалась ПОХАБНОЙ».
Тогда я ухмыльнулся про себя, как сделал бы каждый собирающийся поступать в Оксфорд эстет. Но я недооценивал своего деда. Ведь он совершенно точно определил суть моего тогдашнего увлечения «Лолитой», как полным жизненной силы сочетанием литературы и непристойности. (Такая была нехватка сведений о сексе — не говоря уже об опыте, — что ситуация лучше всего описывалась перефразированным высказыванием Ренара: «Перед лицом секса мы особенно часто обращаемся к книгам».) Еще я оказался не прав по отношению к деду, указав ранее, что он ничего не оставил мне по завещанию. Это не так. Брат поправил меня: «Когда дедушка умер, мне он оставил стол “под чиппендейл” (который мне никогда не нравился), а тебе завещал свои золотые карманные часы (о которых я всегда мечтал)».
Старая газетная вырезка в моем архивном ящичке подтверждает, что стол был подарен деду в честь выхода на пенсию в 1949 году, когда шестидесятилетний Берт Сколток покинул среднюю школу Мэдели-модерн, проработав тридцать шесть лет старшим учителем в различных частях Шропшира. Также он получил кресло — весьма возможно то самое, паркер-нолловское, вечное перо, зажигалку и набор золотых запонок для манжет. Девочки из научного кружка испекли ему двухэтажный торт, а Эрик Фрост «от лица мальчиков столярного кружка» преподнес «ореховую ступку и пестик». Этот предмет я помню, поскольку в бунгало, где жили бабушка с дедушкой, он всегда присутствовал, но никогда не использовался. Когда ступка в итоге перешла ко мне, я понял почему: это была до смешного бесполезная вещь — от одного удара пестика ореховая скорлупа шрапнелью разлеталась по комнате, а орех сминался в пыль. Я всегда думал, что дед сам ее сделал, поскольку почти каждый деревянный предмет в его доме и саду был спилен, ошкурен, выдолблен и скреплен штифтами собственноручно им. Он относился к дереву с большим уважением и дошел в этом до логического конца. Известие о том, что сработанные из первоклассного дуба и вяза гробы через день-другой обращаются в прах, потрясло его настолько, что свой гроб он распорядился сделать из еловых досок.
Что касается золотых карманных часов, то они лежат в верхнем ящике моего стола уже не одно десятилетие. К ним прилагается цепочка, чтобы носить их в кармане жилета, и кожаный ремешок, если вы предпочитаете, чтобы часы свисали из петлицы лацкана в передний карман пиджака. Я открываю заднюю крышку: «В дар мистеру Б. Сколтоку от коллектива дирекции, учителей, учащихся и друзей в честь окончания его 18-летней службы старшим учителем в Англиканской школе Бейстон-Хилла, 30 июня 1931 года». Я и понятия не имел, что мой брат мечтал о них, поэтому сказал ему, что теперь, по прошествии сорока с лишним лет, его греховным страданиям пришел конец — отныне часы принадлежат ему. «Если ты о карманных часах, — ответил он, — полагаю, деду хотелось бы, чтоб они остались у тебя». Деду хотелось бы? Да он просто дразнит меня своими гипотетическими желаниями мертвецов. После чего он добавляет: «А если точнее, я сам хочу, чтоб они у тебя остались». Конечно, мы можем только то, чего хотим сами.