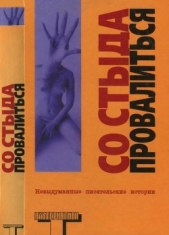Нечего бояться

Нечего бояться читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Про заблуждения: как мой брат был не прав. После смерти матери он отвез прах наших родителей на атлантическое побережье Франции, где они часто проводили отпуск. Они с женой рассеяли его в дюнах в присутствии Ж., ближайшего французского друга родителей. Они прочли: «Не страшись впредь солнца в зной» из «Цимбелина» («Светлый отрок ли в кудрях, / Трубочист ли, завтра — прах») и стихотворение Жака Превера «Les Escargots qui vont à l'enterrement»[49]; мой брат объявил, что это событие его «странным образом тронуло». Позднее за ужином разговор зашел о родителях и их ежегодных визитах в эту часть Франции. «Помню, как меня поразило, — говорил потом брат, — когда Ж. рассказывал, как отец мог развлекать их до утра всякими историями и оживленными беседами. Я не помню, чтоб он вообще разговаривал с тех пор, как они переехали в тот жуткий загородный домик, и думал, что он просто разучился быть веселым. Очевидно, я глубоко ошибался». Наилучшее объяснение, которое я могу предложить, в том, что поскольку по-французски отец говорил лучше матери, это позволяло ему на те несколько недель обретать языковой и социальный приоритет; или же мама, находясь за границей, намеренно принимала образ более традиционной внимающей жены (как бы невероятно это ни звучало).
Еще про заблуждения: как не прав оказался я. У меня было грудное вскармливание, у брата — искусственное: этим я объяснял различие наших характеров. Но вот во время одного из моих последних посещений между мной и мамой возникло нечто похожее на близость, что было для нас совершенно нехарактерно. В газетах напечатали исследование, что у детей, вскормленных грудью, интеллектуальные способности развиваются лучше, чем у искусственников. «Да, я тоже читала, — сказала мама, — и смеялась. С моими двумя вроде все в порядке, подумала я». Потом, под перекрестным допросом, она подтвердила, что меня грудью кормили не больше, чем моего брата. Я не стал спрашивать почему: будь то стремление уравнять нас на старте или брезгливость и нежелание затевать эту пачкотню («Навозюкал, как щенок!»). Хотя условия все равно были не совсем равны, поскольку мама говорила, что молочная смесь у нас была разная. Она даже вспомнила названия на бутылочках, которые я тут же забыл. Теория темпераментов, основанная на различных марках молочной смеси для детей? Даже я готов признать, что это, пожалуй, слишком тенденциозно. И теперь мой брат, приносящий чай больной матери в постель, не кажется мне менее отзывчивым и заботливым, чем я, закутывающийся в ее одеяло, потакающий прихотям (и главным образом лени).
А вот заблуждение позапутанней, хотя и так же удаленное во времени. П., французский assistant, который рассказывал сказки о мистере Бизи-Визи, так и не вернулся в Англию; но тот год, который он провел с нами, был увековечен двумя небольшого размера пейзажами без рам, которые он преподнес родителям. Оба темные, в голландском стиле: на одном изображался полуразвалившийся мост через речку, с перил которого слетала опавшая листва; на втором — ветряная мельница на фоне драматического неба с тремя женщинами в белых чепчиках, устроивших пикник на заднем плане. По жирным мазкам, которыми были написаны река, небо и луг, видно было определенное мастерство и артистизм. Все мое детство и юность эти картины висели в гостиной, потом перекочевали в «жуткое бунгало», но места своего над обеденным столом не уступили. В течение более пятидесяти лет я постоянно смотрел на них и так ни разу и не задался вопросом и не спросил родителей, где именно наш П. поставил свой мольберт. Во Франции — на его родной Корсике, или, может, в Голландии, или в Англии?
Разбирая вещи после маминой смерти, в ящике стола я нашел две открытки с точно такими же видами. Сперва я предположил, что они были напечатаны специально, как реклама работ нашего П.: у него всегда был полный берет теоретически прибыльных схем. Перевернув открытки, я обнаружил, что это напечатанные на продажу репродукции типично бретонских пейзажей: «Vieux Moulin à Cléden» и «Le Pont fleuri»[50]. То, что всю жизнь я принимал за подлинное мастерство, оказалось мастерским копированием. Но был и еще один поворот. В правом нижнем углу каждой карточки была подпись «Yvon», как будто оставленная художником. Однако «Yvon» оказалось названием открыточной фирмы. То есть сами картины были написаны исключительно для того, чтобы сделать из них открытки, — после чего П. превратил их обратно в «оригинальные» картины, которыми они никогда не были. Все это позабавило бы какого-нибудь французского теоретика. Я поспешил рассказать брату о пятидесятипятилетнем заблуждении, ожидая, что его изумление будет не меньше моего. Но его это не тронуло совершенно, и по той простой причине, что он отчетливо помнил, как П. писал эти картины и как он «еще подумал, насколько умнее срисовывать, чем придумывать что-то из головы».
Такая работа над фактическими ошибками дается весьма легко и даже оставляет ощущение, как будто мозг вспрыснули чем-то освежающим. Столкнуться с заблуждением относительно восприятий и суждений, которые ты привык считать своими достижениями, было бы сложнее. Возьмем хотя бы смерть. Большую часть своей сознательной жизни я испытывал живой ужас, а также чувствовал себя вполне способным — вопреки утверждению Фрейда — представить свое вечное отсутствие. Но что, если я в корне ошибаюсь? Ведь Фрейд считал, что с уверенностью в нашем бессмертии упорно не расстается наше подсознание — тезис неопровержимый по своей природе. И тогда, возможно, то, что я полагаю созерцанием бездны, — это лишь иллюзия поиска правды, поскольку в глубине души я не верю — просто не способен поверить — в бездну; и иллюзия эта может остаться со мной до самого конца, если Кёстлер прав, что наше сознание раздваивается, когда мы in extremis[51].
Вот еще почва для заблуждений: что, если ужас, который мы испытываем авансом — и который представляется нам полнейшим, — по сравнению с реальностью окажется ничем? Что, если наши полые образы не более чем бледное подобие того, что нам предстоит испытать — подобно Гёте — в последние часы? И что, если приближение смерти вызывает настолько сильные ощущения, что никаких слов не хватит для того, чтобы его достоверно описать? Чувство того, что ты всю жизнь заблуждался: ведь говорил же Флобер, что именно противоречия позволяют нам оставаться в здравом уме.
А ведь кроме смерти есть еще Бог. Будь Он любителем розыгрышей, Он, без сомнения, испытывал бы особое игривое удовольствие, развенчивая представления философов, которые убедили себя и других в том, что Его не существует. А. Дж. Айер убеждает Сомерсета Моэма, что после смерти нет ничего, тогда как оба они оказываются актерами в небольшом юмористическом представлении под названием «Ярость воскрешенного атеиста». Довольно изящное «что бы вы предпочли» для отрицающих Бога философов: предпочтете вы оказаться правым в том, что после смерти нет ничего, или чтобы ваша профессиональная репутация была разрушена потрясающим сюрпризом?
«Атеизм аристократичен», — заявлял Робеспьер. Главным воплощением этого тезиса в Британии двадцатого века был Бертран Рассел, аристократ до мозга костей. В старости, с его непослушной седой шевелюрой, Рассел выглядел и воспринимался как мудрец на полпути к божеству: научный консилиум в одном лице. Неверие его было непоколебимо, и ему часто задавали провокационный вопрос: как бы он отреагировал, если бы он, всю жизнь пропагандировавший атеизм, оказался не прав? Если бы жемчужные врата оказались не метафорой и не фантазией, а он встретился бы с божеством, которое всегда отрицал? «Что ж, — отвечал Рассел, — тогда б я подошел к Нему и сказал: “Ты не дал нам достаточных доказательств”».
Психологи утверждают, что мы склонны преувеличивать устойчивость наших убеждений. Возможно, таким образом мы утверждаем нашу шаткую индивидуальность; зато, переосмыслив эти убеждения, мы воспринимаем это как великое достижение и точно так же гордимся снизошедшей на нас мудростью, когда начинают ветвиться те несколько дополнительных дендритов. Но параллельно с постоянным, пусть и не отслеживаемым потоком нашей личности или нашего сознания случается, что и мир, который мы привыкли воспринимать таким устойчивым, вдруг начинает крениться, когда космические сдвиги уже невозможно списать на «недопонимание». Сначала это первый, персональный lе réveil mortel; потом — не обязательно одновременно — момент, когда мы осознаем, что все остальные тоже умрут, что сама жизнь рода человеческого закончится, солнце выпарит океаны, планета погибнет. Все это мы принимаем на борт, стараясь по ходу сохранять равновесие.