Копенгага
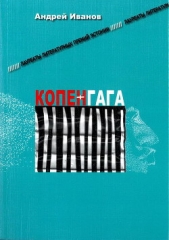
Копенгага читать книгу онлайн
Сборник «Копенгага» — это галерея портретов. Русский художник, который никак не может приступить к работе над своими картинами; музыкант-гомосексуалист играет в барах и пьет до невменяемости; старый священник, одержимый религиозным проектом; беженцы, хиппи, маргиналы… Каждый из них заперт в комнате своего отдельного одиночества. Невероятные проделки героев новелл можно сравнить с шалостями детей, которых бросили, толком не объяснив зачем дана жизнь; и чем абсурдней их поступки, тем явственней опустошительное отчаяние, которое толкает их на это.
Как и роман «Путешествие Ханумана на Лолланд», сборник написан в жанре псевдоавтобиографии и связан с романом не только сквозными персонажами — Хануман, Непалино, Михаил Потапов, но и мотивом нелегального проживания, который в романе «Зола» обретает поэтико-метафизическое значение.
«…вселенная создается ежесекундно, рождается здесь и сейчас, и никогда не умирает; бесконечность воссоздает себя волевым усилием, обращая мгновение бытия в вечность. Такое волевое усилие знакомо разве что тем, кому приходилось проявлять стойкость и жить, невзирая на вяжущую холодом смерть». (из новеллы «Улица Вебера, 10»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Про тех, кто ушел, либо хорошо, либо ничего. Но для меня отец все еще жив.
Вчера проснулся в полном мраке и долго пытался определить, кто я и где (в каком из временных разрезов моей тридцатилетней жизни). Мне почудилось, будто он тут, и некоторое время я лежал в ожидании его голоса, находясь в том времени, когда он мог ворваться в мою комнату, сорвать одеяло, закричать… Именно вчера, посреди плотной, как битком набитая этапка, ночи, я понял, что он никуда не ушел. Он катит по Ильвезе на своем велосипеде с динамиком и колонками, веселя жителей Пяэскюла; позвякивая замками на сандалиях, он оживляет педалями крохотный приемник, и с треском вырывается пронзительное: Один раз в год сады цветут…
Они могут говорить, что угодно: умер, кремирован, точка — но нет, мой отец улыбается солнцу, показывая свой сломанный зуб, вращает педали, поднимая пыль, загорелый, тяжелый, круглоплечий — так он и въехал в вечность, поскрипывая своим стареньким велосипедом (немецкая рама, русская втулка, колеса с «Украины», цепь с «Минска», длинный руль с «Десны»)…
Кажется, он всегда будет рядом. Внутри меня будет эта улица, по которой он так едет и едет… приближаясь, и я понимаю, что он сильно пьян, когда он начинает выть: Один раз в год сады цветут…
Я все еще ребенок. С полным ужаса сердцем дую на мой страх, как на корочку ранки, как на полную кружку, пытаюсь остудить этот ужасом стягивающий сердце черствый обморок человеческого достоинства. Пытаюсь вывернуться из собственной шкуры, чтобы оставить его в дураках.
Бреду из комнаты в комнату с библиотечной лесенкой в поисках, где бы вывернуть лампочку, иду, иду, путая след, стараюсь выбраться из кошмара, придумываю себе способ избавиться от него, выскользнуть в другую жизнь, в которой его нет и никогда не было.
У бабушки в шкафу было две фотографии: белого офицера с крестом на груди (я так и не узнал, кто это был) и отца (в день, когда он пошел в первый класс). Маленький, худенький, лопоухий мальчуган, взгляд исподлобья, серая рубашка, белый воротничок, волосы бобриком. Потом они почернели, стали жесткими и кучерявыми; год за годом лицо его расширялось, упрочняясь, как панцирь, уши прижимались, уголки глаз вытягивались, в них завелся бесовский блеск. Чем больше отец соприкасался с жизнью, тем меньше напоминал того мальчугана на фотографии (потому, верно, и не любил ее).
В пятилетнем возрасте он прожил семь месяцев на барже, неделями не ступая на берег; баржа ходила вверх и вниз по Волге; он жил с одноруким капитаном Матвеем Борисовичем. Отец вернулся из армии, они с дедом выпили, отец припомнил все, что было и чего не было, ну и кончилось все мордобитием. Дед спасался на карачках, а отец бежал за ним на кривых пьяных заплетающихся ногах и наносил, как мог, удары. На Волге отец ел малину с кустов, растущих на берегу, он ел ее не сходя на берег, подплывал на лодке и рвал крупную спелую ягоду чуть ли не горстями… В детстве он лазил по болотам, иногда проваливался по грудь, несколько раз болел воспалением легких. Бабка его била за сырую обувь, и он уходил из дому… Тогда болота были непроходимыми. Лучше всех тропки знал дядя Тоомас. Отец шпионил за ним, вызнал, как можно безопасно уходить в самую глубь, — так он нашел катакомбы, в которых немцы после себя оставили консервы, бензин, зажигалки, радиоприемник, оружие… там были даже письма, фотокарточки, портсигары, медальоны, карты, записи… было много немецкой формы… Они с другом и псом там жили неделями… Я видел фотографию, на которой он стоит в какой-то жуткой пещере с факелом и пулеметом наперевес, у ног сидит пес. Его били какие-то кретины, и он им сказал, что перестреляет их всех. Они не поверили, что у него есть оружие; тогда он сказал, что на закате, у тех бочек даст три пулеметные очереди. «Это буду я, — сказал он, — и если еще раз тронете, положу вас всех!» Дал в положенный час три очереди — и бить перестали, обходили стороной, после этого никто не отваживался лазить по болотам.
Бабка его била, дед лупил. Ему надоело терпеть: он пришел с автоматом и стал стрелять по окнам, палил и хохотал как сумасшедший; приехали менты, отобрали оружие — он сам отдал, сказал: «Берите — не жалко, у нас этого добра много!» Его допрашивали, где он взял, а он сказал, чтобы они сами шли на болота да поискали…
С ним возился дядя Родион, прививал культуру. Своих детей у него не было, вот он и взялся за отца. Они стали вместе собирать приемники, давить чеканки. В шестнадцать отец сделал щит в натуральную величину с тигриной мордой (когда много позже он принес его на ментовскую выставку, никто из сослуживцев не поверил, что это его работа, — как ему горько было тогда!). Я помню, как он долго возился с большой чеканкой «Александр Невский». Она висела у него в комнате, а на другой стене — фрагмент картины «Утро на Куликовом поле» (Дмитрий Донской на фоне знамени с ликом Христа).
Были и ружья, собранные им самим; надраенные стволы, собственноручно вылитые курки и бойки; он вырезал такие красивые приклады, что дух захватывало, так они переливались лаком: кто брал и прикладывал их к плечу, тут же хотел идти на охоту, даже если ненавидел убийство животных и птиц.
Ружья тоже висели на стене, под ними крест-накрест шашка со шпагой, два кортика, один — немецкий с рифленой ручкой и кровостоком, другой — советского морского офицера, подарок дяди Родиона, его кортик (по преданию он им пустил кишки одному гаду, но деталей рассказано не было).
Чеканки пахли как-то особенно; еще у него был какой-то зеленый камень, которым отец натирал медь до блеска, он тоже пах как-то особенно. Мозолистые руки отца были в заусеницах. Он мне говорил, что ладонь настоящего мужчины должна быть сухая и плоская, стертая, изборожденная морщинами и мозолями, как пустыня или поле, которое много раз пахали. Смуглый, волосы до смоли черные. От него пахло потом, бензином, табаком, алкоголем и луком; а запах, который верней прочих для меня воскрешает его, это запах канифоли.
Отца бесили вороны. У нас на березах осенью, когда листвы не было, заседали стаи ворон. Глянешь на березу, а она вся черная, вся облеплена вороньем, и по утрам, бывало, стоял жутчайший грай, аж спать невозможно. Как начнут каркать, хоть вешайся! Тогда отец брал ружье, открывал форточку и палил в березу из обоих стволов и кричал, хохотал, бил себя в грудь, а воронье разлеталось с воплями, затмевая небо, и казалось, что в небе летает не стая птиц, а невообразимое количество жуткого, крупного черного пепла. А потом мы переехали.
Мы получили квартиру в районе, где он был участковым. Как переехали в город, отец начал быстро спиваться, превращаясь в психопата. Он мне постоянно твердил, чтобы я смотрел в оба, запоминал странных личностей. Приносил фотографии тех, кто были в розыске, заставлял запоминать. Он часто бывал на взводе, заставлял сидеть в противогазе, говорил о войне, о колотых, резаных, пулевых ранах, дезинфекции и повязках…
Новая квартира была до жути мрачная, в ней очень долго пролежала мертвая старуха, поэтому там все провоняло трупом. Мы несколько лет жили с этим запахом, а потом привыкли и не замечали, но гости спрашивали, чем это у нас попахивает, и я по-глупости говорил: «Мертвой старухой!» Мало-помалу к нам перестали ходить, мы не отмечали праздники. Отец просто напивался, и мы от него убегали… в новогоднюю вьюжную ночь, поскальзываясь и падая, он бежал за нами с гиканьем, — ему эта погоня доставляла огромное удовольствие, — прохожие смеялись, махали нам бенгальскими огоньками… они и представить себе не могли, в каком мы ужасе…
Когда мать увлеклась Востоком, она однажды пришла к выводу, что это была карма той старухи, все из-за того, что она не смогла умереть нормально, и не была вовремя похоронена, отпета и так далее. Присутствие в доме призрака ощущалось долго, пока я не повзрослел, и даже тогда в квартире сохранялись многие вещи, которые напоминали о ней: маленький шкафчик в моей комнате с ручками-львами на дверцах, крючки для ключей и одежды, печь, дверные ручки, кран и умывальник. Как-то мы сдирали с мамой обои, которые они с отцом поклеили, когда въезжали, и под их обоями мы нашли старые за бог весть какой год. Они въелись в стену, доски под ними прогнили, а под доской так много осыпалось известки, что нам пришлось вызывать мастера, который установил, что надо сносить стену. Пришли мужики, осторожно вынули часть стены, вставили кусок арматуры, проложили утеплитель, помазали, покрасили и ушли, унеся с собой кусок старой стены. Напоследок они сказали, что все равно весь дом прогнил, тут все надо ремонтировать. Слышимость была такая, что мне казалось, будто я сплю головой на улицу, я мог слышать, что говорят прохожие, а когда на крыше начинали возиться голуби, было просто невозможно спать. Вообще, жизнь там была невыносимой…

























