Копенгага
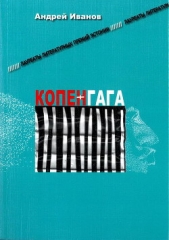
Копенгага читать книгу онлайн
Сборник «Копенгага» — это галерея портретов. Русский художник, который никак не может приступить к работе над своими картинами; музыкант-гомосексуалист играет в барах и пьет до невменяемости; старый священник, одержимый религиозным проектом; беженцы, хиппи, маргиналы… Каждый из них заперт в комнате своего отдельного одиночества. Невероятные проделки героев новелл можно сравнить с шалостями детей, которых бросили, толком не объяснив зачем дана жизнь; и чем абсурдней их поступки, тем явственней опустошительное отчаяние, которое толкает их на это.
Как и роман «Путешествие Ханумана на Лолланд», сборник написан в жанре псевдоавтобиографии и связан с романом не только сквозными персонажами — Хануман, Непалино, Михаил Потапов, но и мотивом нелегального проживания, который в романе «Зола» обретает поэтико-метафизическое значение.
«…вселенная создается ежесекундно, рождается здесь и сейчас, и никогда не умирает; бесконечность воссоздает себя волевым усилием, обращая мгновение бытия в вечность. Такое волевое усилие знакомо разве что тем, кому приходилось проявлять стойкость и жить, невзирая на вяжущую холодом смерть». (из новеллы «Улица Вебера, 10»).
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ненавидел запахи и пары из кухни. Ненавидел, как беспокойно громко расставляли тарелки, визгливые ложки в мисках, эхо стульев и голосов; пыль, которая каталась по полу; постельное белье, грубое, хрустящее… Оно скрипело на пальцах, пахло кипятком и хлоркой, чужим миром, в котором нет покоя, биения теплой жизни. Простыни напоминали о женщинах, которых я видел у паровоза, что намертво встал в тупике у Балтийского вокзала и служил прачечной. В ней работали женщины, необыкновенно крупные, в свободных белых рубахах, платках, с тяжелыми вислыми грудями, закатанными рукавами, мускулистыми руками, толстыми шеями, узлами волос, черными мохнатыми бровями, в передниках и галошах (ненавижу галоши!). Паровоз иногда выдувал белую струю пара; бабы гоготали…
Мама ходила покупать билет в вокзальной кассе, стояла в очереди, я терпеть не мог очереди, сидел на скамейке, на платформе, ждал ее и рассматривал тех женщин… Они пили чай из стаканов с подстаканниками, как в вагоне, они были пропитаны парами, влагой, дымом сигарет, потом… Они были настоящие. Они принадлежали паровозу, были частью этого стального динозавра; их красные щеки, мощные тела, розовые руки, громкий хохот, песни, шутки — все это было жуткой правдой о жизни, которой я боялся, потому что она не имела ничего общего с лаской мамы, драконами и рыцарями, замками и принцессами на ее костюме, сказками, которые она мне читала, мехом ее воротника, инеем на траве, шепотом ее нежных слов, которые проглатывал вой электрички, разрезал скрежет стальных колес, душил шум голосов; толпа, вагоны, автобусы, ветер над болотами… мир!
Эти бабы и паровоз были сродни грохоту грузовиков, мастерской и гаражу отца. Было что-то общее у них с трубой, свалкой, истерическим смехом дяди Климы и криком за высоким забором. Над всем этим, как и над свалкой, парили чайки. Над всем этим, как и над болотами, хохотало воронье; они сидели в своих жутких гнездах под крышей неба и ждали, когда мы все сдохнем, и когда сдохнем, они слетятся и выклюют нам глаза, а потом сквозь глазницы доберутся до мозга; потом будут ждать, когда мы подгнием, чтобы легче клевалось, будут затевать меж собой свалки, отвратительные драки, с криком, хлопаньем крыльями, карканьем. Но мы этого не увидим, мы будем гнить, неподвижно лежа на дорогах, полянках, ступеньках, потому что бабка сверху сказала, что однажды они из трубы выпустят такой красный дым, от которого мы все умрем — и нас всех пожрут вороны. И я думал, что так будет лучше. И Лешка тоже после взбучки со слезами на глазах говорил: «Чтоб вы все сдохли, суки!»
Жить было тошно потому, что жизнь была расписана, как трамвайный маршрут. А скучнее трамвая, на котором мне приходилось ездить, вещи на свете не было. После школы я должен был пойти в армию, об этом часто говорили, сверлили мозг, готовили… Я воспринимал мое пребывание в школе и прочих местах как обязательное. Теперь я подобрал наиболее подходящее слово — принудительное. Все мое существование имеет оттенок принудительности: меня насильно извлекли из чрева и теперь, куда бы я ни двинул в этой жизни, меня всюду понукают шлепками, бранью, пинками. В этом мире все принудительно, и что самое отвратительное — от этого не уйти, только ногами вперед. И почему тут все принудительно? Да, потому что я родился у болот, а те, кто родился на болотах, те — лишние, избыток жизни, ничто! Обрили головы, построили в шеренгу — и вперед! — на бойню в Афган, Вьетнам, Корею, Ирак. В очередь! — ждать какого-нибудь чуда или пенсии, паспорта или визы. Получили — расписались — и под вопли лающих мегафонов колоннами к коммунизму марш! Через Беломорканал и Соловки!
Нас слишком много; нас чертовски много; нас целая Африка! весь Китай и вся Индия! Пакистан, Казахстан, Амазонка; нас много там, где пустыня, нас там так много, что не сосчитать… и не надо считать, через одного покойник, вповалку, облепленные мухами, пиявками, струпьями, лишаями, нас там так много и нас там уже нет, так что и считать незачем, просто промолчать. Да, минуты молчания достаточно. Или один большой концерт Машины времени вместе с U2. Одного такого благотворительного концерта на всех хватит. Сыграть, зажечь спички и помолчать. Прослезиться и почувствовать себя в этом молчании хорошо, и главное — вместе. Молчание. Нет, не вопль убивает людей, а молчание.
Но сколько бы ни давили, всех войн не хватит, чтоб вывести болотную тварь, недостаточно лагерей и газовых камер, костров инквизиции, крестов, чумы, сибирской язвы, СПИДа… Нет, недостаточно! Давай еще! Клеймо, ярмо, парниковый эффект… Нас все еще слишком много! Мы размножаемся как крысы, с каждым днем нас все больше и больше! Плодимся как вирус. Выползаем из-за плинтуса пылевыми клещами… Пожираем отбросы, но живем, живем и жуем свалки, сжирая планету до дыр, до пустыни. Из нас выжимают последнее, мы бьемся в конвульсиях, чтобы они там кофе на консилиуме попили. Мы живем во имя Господа, которого нам придумали, становимся патриотами этой эфемерной структуры, которая вытягивает из своего народа все соки, обращая их в доллары в иностранных банках. Белками вращаем колесо фортуны, чтоб они ставили то на красное, то на черное. Ради этого и живем! Ради этого мы умираем… и гордимся, что умираем гражданами своей страны. Парадокс, который мне не понять, и я не хочу его понимать.
Сколько можно гордиться историей того, что нас увечит и грабит каждую секунду? Сколько можно восхищаться теми, кто нам лжет каждый день, предает, посылает на бессмысленные войны? Сколько можно восторгаться поэтами, которые воспевали и воспевают отечество, которое пило, пьет и будет пить нашу кровь, слипаясь в союзы, распадаясь, будто дурачится ванька-встанька?
Почему мы не выйдем на улицу и не начнем жечь книги, взрывать банки, топтать бюсты гипсовых богов, кромсать на лоскутки конституции, декларации, указы, кодексы, униформы?
Сколько можно терпеть? Терпеть и пить эту чашу…
Сколько для нас придумано и навязано всяких цепей, какими тяжелыми якорями тянут нас на дно этой братской могилы православные и католические кресты!
Каждый обречен умереть рабом в своей несвободе, так и не осмыслив того малого, что нам было дано.
Так доведем до блеска этот гамбит! Давайте сразу построим один большой мировой концентрационный лагерь и станем копать одну большую могилу! Чего ждать? Чего еще ждать? Хватит кривляться! Даешь смерть! Даешь великую отечественную смерть! Даешь единый могучий смертный хрип и всеобщий вздох облегчения!
Только здесь, в подвале этого замка, я могу это осмыслить, потому что тут я нахожусь добровольно, и это наибольшая свобода, которой я когда-либо достигал. И то, что всем кажется бессмысленным, для меня — и еще для старика Скоу — имеет огромное значение.
Даже выгребание золы из топки для меня значит больше, чем в той жизни могли бы значить признание, ученая степень, тепленькое местечко на кафедре. Даже выгребание золы из топки имеет больше смысла.
Потому что оно актуально, а та моя жизнь, по ту сторону страха, смерти, предательства, боли, жалости, слюней, слез — все то, что осталось по ту сторону, было просто так пусто, так склочно, так убого, что и жизнью-то не назовешь, какая-то жалкая аппликация, а не жизнь.
Потому, верно, у меня и не дрогнуло внутри, когда возник соблазн стряхнуть с себя игрушечную жизнь, чтобы ощутить сердцевину.
Я пока не совсем четко разбираю старые карты — трудно быть археологом собственного помешательства, но еще труднее было бы это доверить кому-то другому. Просто невозможно.
Тут, в пустой бойлерной, как-то проще все это.
Да, я не основателен, я пока что скольжу по поверхности, снимаю первые совки с краев. Потому как если сразу копнешь в середину, так повалит — возни не оберешься! Но скоро я прорву эту пленку и уйду в глубину, скоро я доберусь до ядра, скоро станет до прозрачности просто, и я буду смотреть на вещи, как смотрит опытный хирург на сгнившую печень, которую только можно взять да и выкинуть, как эту золу.

























