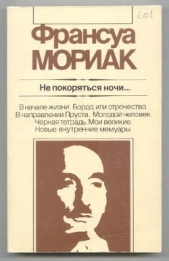Портрет незнакомца. Сочинения
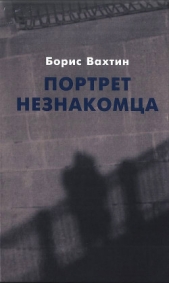
Портрет незнакомца. Сочинения читать книгу онлайн
В книге представлена художественная проза и публицистика петербургского писателя Бориса Вахтина (1930–1981). Ученый, переводчик, общественный деятель, он не дожил до публикации своих книг; небольшие сборники прозы и публицистики вышли только в конце 1980-х — начале 1990-х годов. Тем не менее Борис Вахтин был заметной фигурой культурной и литературной жизни в 1960–1970-е годы, одним из лидеров молодых ленинградских писателей. Вместе с В. Марамзиным, И. Ефимовым, В. Губиным, позднее — С. Довлатовым создал литературную группу «Горожане». Его повесть «Дубленка» вошла в знаменитый альманах «МетрОполь» (1979). По киносценарию, написанному им в соавторстве с Петром Фоменко, был снят один из самых щемящих фильмов о войне — телефильм «На всю оставшуюся жизнь» (1975). Уже в 1990-е годы повесть «Одна абсолютно счастливая деревня» легла в основу знаменитого спектакля Мастерской Петра Фоменко.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На этой улице, поближе к лесу, стоял и стоит до сих пор деревянный домик с палисадником, яблоней и кленом во дворе, на клене до сих пор висит веревка от детских качелей, а под яблоней сохранилась скамейка — просто доска, прибитая к двум врытым в землю столбикам. Здесь много после смерти Сталина родилась у четы Горюновых дочь, которую отец, горький пьяница, отнес в церковь тайно от матери и окрестил Гликерией, по-народному Лукерьей, потому что любил имя Луша и был, кроме того, по матери потомком знаменитой предводительницы духоборов Лукерьи Губановой (замечу, что и у меня в роду есть Губановы, что и послужило мне поводом для знакомства с упомянутой выше красавицей и для нескольких долгих с ней бесед; не скрою, что и я был в нее влюблен, понимая, впрочем, всю безнадежность моего чувства и тщательно его скрывая). Мать же мечтала назвать дочь Надеждой — и так ее в загсе и записала, отчего девочка по закону стала Надеждой Платоновной, а по крещению Лукерьей Платоновной. Это, конечно, пустяк, но, во-первых, не с каждым такое случается, во-вторых, согласитесь, все-таки это не может не стать поводом для размышлений ребенка над предметами, размышлять о которых ему не так-то просто, а кроме того и в-третьих, с этого момента отношения между родителями девочки стали невыносимыми. То ли вдруг сказалась разница в их возрасте (Платон Степанович был старше своей жены лет на двадцать, а кое-кто в Сказкино говорил, что и на все тридцать), то ли разница в жизненных взглядах, не знаю, однако мира и дружбы между ними не стало никаких. Отец называл дочку Лушей, мать — Надей и била ее, если она на вопрос, как ее зовут, отвечала, что Лушей. Отец не бил, а только поправлял, так что она рано стала молчаливой, на вопросы об имени старалась не отвечать вовсе — так ей было легче. Память у нее развилась необыкновенная, может быть, именно благодаря молчаливости.
В школе она была, естественно, Надеждой. В те годы, да и раньше и позже, в необыкновенную моду вошло имя Таня, встречались классы, в которых почти все девочки были Танями, но и Надежд было много, так что Горюнова, и вообще неприметная, не выделялась и именем, что сложилось бы иначе, если бы звалась она вслух Лушей. В школе она, хлопот никому не доставляя, училась на круглую «четверку» — отвечала всегда вроде бы толково, но голосом тихим и неуверенным, так что ставить ей «три» было не за что, а «пять» — рука не поднималась. Красота росла в ней медленно, прикрываясь до поры то малым ростом, то худобой и всегда — невзрачной одеждой. Понятно, что ее, как говорится, прозевали, прозевали начисто — до сих пор в Сказкино ни от кого толком не добьешься, когда же Горюнова вдруг попала под влияние церкви, когда начала она ее посещать и петь там в хоре.
— Можно было вовремя насторожиться, — сокрушался Побирохин, директор школы, давшей Горюновой десятилетнее образование, — можно было кое-что предвидеть. Грамотная она, например, была чересчур — я нет-нет да и загляну в орфографический словарь, а она ни в диктантах, ни в сочинениях ни разу ни одной ошибки не сделала.
Кроме этой необычной и даже, пожалуй что, и неприличной грамотности вспомнили задним числом и еще кое-какие штрихи и черточки Горюновой, которые должны были бы насторожить, — например, отличалась молчаливостью, не красилась, на школьных вечерах бывала, но танцевала мало (кто-то заметил, что, может, ее и не приглашали, но на эту мысль внимания не обратили), да — самое-то главное! — и в комсомоле она не была! Почему? Как это? Бросились доискиваться причин — и не доискались. То ли ей предлагали, а она уклонилась, то ли даже и предложить забыли…
— Не то, значит, забыли предложить, не то забыли, что предложили, не то предложили, но не так предложили, не то забыли, что забыли, — сказал учитель физики Желтов, человек самый, возможно, интеллигентный в Сказкино. Во всяком случае, его сын Алик уже защитил диссертацию по физике твердого тела и работал успешно не то в Дубне, не то еще где-то в похожем месте и был, несмотря на молодость, выдвинут в составе большого коллектива на Государственную премию. С ним мы еще встретимся в нашем рассказе, когда он, на свою голову, познакомится с Горюновой — ее, этого заморыша, в начальных классах их общей школы он, конечно, и не разглядел, когда кончал ту же школу.
Ирония Желтова-отца как-то приостановила разговоры учителей и общественников о Горюновой. Только припомнили еще малюсенький эпизод многолетней давности. Когда, вспомнили, Надя пришла первого сентября в пятый класс и принесла, как и все, букет, то в зале на торжественной линейке отдала его не новой классной руководительнице, а той, что в течение первых четырех классов была учительницей по всем предметам, некоей Веригиной Инне Николаевне. Та смутилась, цветы не приняла и, повернув девочку за плечи, показала ей, кому надлежит вручить букет. Но Надя вдруг заплакала, уронила цветы и пошла на место в строю. Неловкость замяли, объяснив все растерянностью девочки. Впрочем, никто в школе, к счастью, не видел, как Инна Николаевна в тот вечер стояла с Надей на улице Батюшкова, и о чем-то они горячо говорили, и Надя часто кивала головой…
Инну Николаевну призвали и спросили о Горюновой, не замечала ли она у той религиозных отклонений, на что учительница ответила, что Горюнову помнит очень хорошо, но отклонений в сторону церкви у ребенка не замечала.
— Как же вы прозевали, — сказал директор Побирохин. — Забыли, что атеистическая сознательность закладывается именно начальной школой?
Инна Николаевна моргала в ответ редкими своими ресничками, и вся ее полная фигура — от льняных волос до толстых коротких ножек — выражала удрученность. Побирохин хотел было влепить ей выговор за недосмотр с Горюновой, но в гороно ему сказали: отставить, не надо. Но прав был директор, а не гороно, не подвело его безотказное чутье — скрыла Веригина Инна Николаевна, что и в старших классах сохраняла дружбу с Надей и все о ней знала. Да и до сих пор сохраняет, состоит с ней в тайной переписке и, находя неизвестно откуда время на это, подолгу сидит над письмами, и хотя письма получаются длинные, но, наверно, обдуманные, потому что Горюнова, читая их, часто задумывается, останавливаясь, и кивает головой — точь-в-точь как тогда, в далеком детстве, а иногда расплачется, да как — горстями, можно сказать, слезы откидывает.
После указаний гороно все затихло быстро — жизнь спешила дальше, неприятностей настолько хватало свежих, что не успевали старые ворошить.
После школы Горюнова, вдруг превратившаяся в красавицу, — впрочем, не вполне во вкусе общественности Сказкино, считавшей ее огромные глаза несомненным уродством, — поступила библиотекарем в музыкальное училище имени Глинки, но пела одновременно и в его хоре, и в церкви, так что голос ее, чистый и богатый, способствовал одновременно популярности как училищной самодеятельности, так и церковной службы.
Долго такое противоречие терпеть, понятно, было невозможно ни за что и никак. Утехина, директор училища, вызвала, как ей посоветовали, Надю в кабинет и с глазу на глаз — тоже по совету — прямо спросила:
— Ты что — в Бога веришь? Тебе что — деньги там платят?
Нет, не читала Утехина Яна Амоса Коменского и не знала — нельзя, доискиваясь истины, задавать сразу два и более вопросов, так как вопрошаемый может ответить только на один, как бы не заметив другие. Вот и Горюнова про Бога словно и не расслышала, а ответила про деньги:
— Нет, без денег пою.
— Так зачем же поешь там? У нас ведь тоже без денег!
— Сердце просит.
— С чего это?
— Послушайте, пожалуйста, как красиво, — сказала Горюнова и вдруг грохнула во всю силу своего юного голоса: — Ныне отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу твоему с миром…
Утехина от такой дерзости просто онемела. «Придушили меня гнев и возмущение», — признавалась она потом, оправдываясь, что не сумела, как ей советовали, переубедить подчиненную.
— Да как же ты смеешь такое петь! — завопила она, опомнившись.
— Это Глинка сочинил — что ли, вы не знаете? — сказала Горюнова.