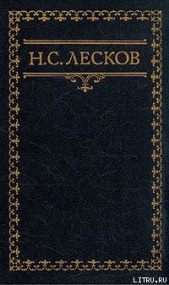Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы
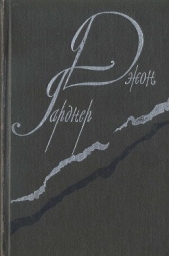
Никелевая гора. Королевский гамбит. Рассказы читать книгу онлайн
Проза Джона Гарднера — значительное и своеобразное явление современной американской литературы. Актуальная по своей проблематике, она отличается философской глубиной, тонким психологизмом, остротой социального видения; ей присущи аллегория и гротеск.
В сборник, впервые широко представляющий творчество писателя на русском языке, входят произведения разных жанров, созданные в последние годы.
Послесловие Г. Злобина
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ноги уже закоченели. К тому времени, как он приедет в Ютику, он замерзнет до полусмерти. Сунув руки в карманы пальто, он вспомнил, что захватил с собой книгу «Наступление на христианство». Он вынул ее, но не смог читать. Отвлекали пассажиры, которые толкались и шаркали ногами, пробираясь мимо. Хуже того, чем усиленнее он старался сосредоточиться — то на книге, то на попутчиках, смыкавшихся вокруг него, решительно, но как бы невзначай, словно медленно окружающие овцу овчарки, — тем больше его мутило от мыслей о доме. Временами накатывала тупая тоска, временами — возбуждение и тревога, такая острая, что захватывало дух. Лицемеры, думал он со злобой. Это слово все чаще и чаще возникало в его сознании, или, верней, возникало между его сознанием и надвигавшейся угрозой: отец и мать живут все эти годы вместе, не любя друг друга, отец верен ей просто из трусости или по привычке, вот так же, как он верен лютеранской церкви. Не лучше и соседи, чего бы они о себе ни мнили. Филистеры, безмозглые конформисты. С души воротит.
Он закрыл глаза. Все ложь.
Поезд двинулся так плавно, что поначалу, как всегда, показалось, будто тронулся с места вокзал. Читать он по-прежнему не может. Лезет в уши шум колес, которые бормочут неотвязчиво и монотонно, будто кто-то без конца бренчит на банджо; взгляд следит за тем, как ударяются об окно, прилипая к стеклу, хлопья снега. Поезд еще не выехал из Олбани, за кашей снежных хлопьев проплывают серые здания, затем дома поменьше с рождественскими елками в окнах, затем светящиеся в сумерках холмы, и вот замелькали домики и перекрестки небольших городов. Поезд часто останавливается, пассажиры входят и выходят, все повторяется снова и снова, как в кошмарном сне: гул голосов, мелькают стоящие в ожидании или бегущие люди, женщина из Армии спасения с колокольчиком, хлопья снега, беспрестанно бьющиеся в окно. Наконец начались горы — поезд как бы повис в темноте, только вздрагивал на поворотах, — и мутить стало поменьше. Минут тридцать Уиллард читал книгу, потом задремал, и ему приснилось, что он маленький мальчик и едет по лесу с отцом в парных салазках для перевозки бревен. Сон был сперва приятным, но понемногу стал меняться, и в конце концов, взглянув на отца, Уиллард неожиданно понял, что, хотя тот сидит очень прямо, чуть не касаясь шляпой звезд, он мертв. Вздрогнув, Уиллард проснулся, и в первый миг ему показалось, что поезд падает стремглав в широкое бездонное ущелье. Справившись с приступом страха, он прижался лицом к стеклу, приложил с обеих сторон ко лбу руки, как шоры, и увидел снег и безжизненные деревья, торчащие из снежного моря. Он опять откинулся на спинку сиденья, и на этот раз его так сильно замутило, что едва не вырвало.
В вагоне было темно, лишь над дверью мерцали красные плафончики. Дверь внезапно открылась, в вагон ворвался громкий грохот колес, и кондуктор, входя, крикнул:
— Ютика через двадцать минут! — Покачиваясь, кондуктор прошел по вагону — в свете красных плафончиков стекла его очков казались темными — поравнявшись с Уиллардом, наклонил к нему свое белое как мел лицо и машинально повторил: — Ютика через двадцать минут.
Уиллард кивнул, встрепенувшись, словно понял только сейчас. «У меня всего два доллара», — опять подумал он и, слегка вздрагивая от холода, сидел, крепко стиснув губы, пока не увидел в окне серые лачуги городских окраин. Тогда он поднялся, вынул из сетки чемодан и начал пробираться к выходу. Он чувствовал на себе взгляды пассажиров и торопился.
В дверях вагона ветер набросился на него, словно намереваясь сорвать с лица земли и унести в пространство, но Уиллард крепко вцепился в холодную ручку, а полы пальто прижал чемоданом и, спустившись на платформу, поспешил к зданию станции. Ветер неистовствовал, когда он сходил по ступенькам, но у вокзала, под прикрытием, затих. Уиллард поставил чемодан на землю, глубоко втянул в себя морозный снежный воздух и стал оглядывать платформу и освещенное здание станции. Ветер свистел между колесами вагонов, в металлических опорах навеса и, взметая хлопья снега, летел за угол вокзального здания. Скрипя, проехала почтовая тележка, чуть не задев его чемодан, вокруг, смеясь и разговаривая, сновали люди в запорошенных снегом пальто и шляпах. За углом вокзала какие-то приезжие садились с багажом в машины, и в метельной тьме перекликались мужские и женские голоса. Большие двери позади него то и дело распахивались и захлопывались, закутанные фигуры мелькали в снежной пелене.
— Какой вагон на Батейвию? — крикнул сердитый голос, и Уиллард на мгновение увидел бородатое, пересеченное шрамом лицо. Пар, вырвавшись со свистом, заклубился вокруг колес, вагоны тронулись. Замелькали лица пассажиров. Потом внезапно перед его глазами оказались пустые пути, крытые переходы, светофоры и темнота. Когда покачивающийся красный огонек последнего вагона скрылся в ночи, Уиллард повернулся и вошел в зал ожидания.
В большом сводчатом зале не было ни одного знакомого лица. На скамьях, напоминающих церковные, не разговаривая, с унылым и чопорным видом сидели укутанные в теплые пальто и шарфы пассажиры. Рядом с толстой женщиной спал, лежа на скамье, малыш лет двух или трех в теплом зимнем комбинезончике, и на секунду у Уилларда перехватило дыхание.
Он подумал о своем незаконном ребенке, которого ни разу в жизни не видел. Подумал с беспокойством, увидит ли его на этот раз? Поглядел по сторонам. В дальнем конце зала находился зеленый металлический газетный стенд. Он торопливо бросился к нему, и на смену неприятной мысли о ребенке сразу явилась другая — о бомбе. Уиллард Фройнд все больше и больше страшился — хотя временами он и сам понимал: все это вздор, — что глупость рода человеческого, и в особенности американской демократии, движет мир к гибели, и час ее недалек. Обычно молчаливый и застенчивый, он уже несколько раз, немного выпив, высказывался на эту тему перед ребятами в Олбани, когда все собирались в полутемном салуне, проигрыватель крутил серию пластинок в сорок пять оборотов — Чайковский, Кентон. Едва придерживая губами болтающуюся сигарету и выставив вперед голову и плечи (какой-то киногерой так ходил, может быть, Марлон Брандо), он распалял себя мрачными перспективами, лишь отчасти сознавая и не говоря своим слушателям, что сам он потеряет на этом больше других. У его отца самый большой в их округе амбар, сводчатый, как ангар, а под ним просторный, как стадион, коровник. Работники отца, будто на фабрике, снуют между стойлами, перетаскивают с места на место доильные аппараты, спускают сено вниз по наклонным лоткам и ставят бидоны на сверкающую металлическую тележку, которая отвозит их к холодильнику. Он сказал отцу, что девушка беременна, что он хочет на ней жениться. Тот засмеялся, потом его взгляд стал суровым, и, не говоря ни слова, он влепил Уилларду пощечину.
«Не путай шуры-муры с делом», — сказал он, и Уиллард вспыхнул от гнева и от стыда: ведь это правда, он ее не любит, хотя при одном только виде «Привала» его пронзает боль желания, и владения Генри Сомса, жалкая пристройка и закусочная, одно время служившие ему убежищем от механизированного, хладнокровного, стяжательского зла — «У. Д. Фройнд и сыновья. Молочная ферма», — стали для него тем, чем и казались на посторонний взгляд: приютом убогих доморощенных соблазнов. В бешенстве он сдернул крышку с ближайшего к нему большого бидона и опрокинул его — на пол хлынуло густое теплое парное молоко. Отец, вскрикнув, с опаской отступил на шаг, а Уиллард расплакался и выбежал из коровника. Надави он на отца, и вышло бы по его, ведь добился же он позже права бросить сельскохозяйственное училище и заняться английским языком. Но тогда он просто возвратился в Корнелл и все так же получал от нее письма, а сам маялся от собственной нерешительности, но ничего не предпринимал. Отец, конечно, сволочь, но в одном он прав: набожные, елейные, неосновательные валлийцы для него чужие, у них нет с ним ничего общего. Впрочем, совесть его мучила, что верно, то верно. Но, выпив, он ораторствовал о политиках, чудовищах своекорыстия, и о бизнесменах, о поразительной их ограниченности и толстокожести. Во время этих разглагольствований он, всегда такой сдержанный, тихий, ужасаясь, вспоминал своего друга, или бывшего друга, Генри Сомса, чудаковатого отшельника — Генри тоже, приходя в раж, нес бог знает что, как пьяный или сумасшедший. Слушатели усмехались, крутили пальцем возле головы и говорили: «Не все дома». Вспомнив Генри Сомса, Уиллард замолкал, щипал себя за верхнюю губу (это у него тоже от Генри), сжимал губы и угрюмо опускал глаза. «Фройнд, скажи, что тебя точит?» — спрашивали иногда ребята из землячества. Но он не мог им рассказать, хотя сами они по целым дням бахвалились своими мужскими подвигами. Еще в Корнелле он рассказал как-то — это было кошмарно. Я хочу снова стать ребенком, думал он.