Европа
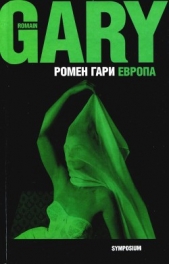
Европа читать книгу онлайн
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По словам все того же Лукулла, Годи проводил большую часть времени выискивая по трактирам энергичных музыкантов, способных дать чувствительным струнам его редчайшей скрипки смычок, потребность в котором он сам утолить не мог. Как все истинные искатели абсолюта, граф скоро понял, что божественному голосу нужен соответствующий аккомпанемент. Сначала он ограничивался собственной игрой на флейте, потом нанял скрипку и клавесин и в конце концов, два или три года спустя, хотя перенес уже не один апоплексический удар, он разместил на сцене маленького театра оркестрантов, каждый из которых отбирался с особой тщательностью. Пока прекрасная Тереза, распластавшаяся на медвежьей шкуре под взглядами присутствующих, изливала себя в песне, оркестр подхватывал мелодии девушки, отмеченной Божьим перстом, и ее голос поднимался к небу, как будто благодаря за ниспосланный ей дар. Музыка безошибочно следовала за пьянящими извивами пения этого ребенка, в котором жил гений.
Лукулл утверждает, что когда граф Годи наконец умер от очередного удара в расцвете душевных сил, Тереза бежала в Кремону, где встретила четырнадцатилетнего Паганини. В ее объятиях, внимая ей, он будто бы и обрел чудесную остроту слуха и музыкальный талант, с помощью которых стал величайшим скрипачом своего века. Из всех биографов Паганини один Кульдер ссылается на историю или легенду о графе Годи, гениальном ребенке — Терезе, музыкальных вечерах на острове и встрече маэстро из Кремоны с той, от кого он якобы получил и свое богатство, и свою болезнь, которая свела его в могилу.
Дантес и Эрика, держась за руки, осматривали разрушенный театр и не могли избавиться от впечатления ностальгической грусти, словно он помнил и жалел о славных временах, посвященных искусству, которые знал некогда.
XLIII
Сен-Жермен осторожно протирал огромный бриллиант, надетый на указательный палец. Взгляд графа погружался в него с острым любопытством, не пропуская ни малейшей детали. Насколько хватало силы прозрачного камня, он смог проследить за Дантесом до самого острова, хотя сам Дантес еще даже не отправился туда. Он забавлялся этой хитростью, созданной его воображением для знаменитого мага, умеющего так ловко манипулировать снами, которым он был обязан всеми своими сокровищами, своей известностью и чуть ли не своим существованием… И вот Дантес, стоявший в зеркальной гостиной, чувствовал, что, хотя он продолжает грести, лодка оцепенела, превратилась в мрамор, как будто Время, с небрежностью, присущей скорее девицам легкого поведения, чем этой августейшей особе, поддалось обычной для материального мира и потому совершенно неожиданной прихоти: решило отдохнуть, а значит, продлиться — если только не для того, чтобы проиллюстрировать Зенона, жестокого Зенона, Зенона Элейского, пронзившего своей крылатой стрелой, которая колеблется, летит и не летит, поэта Поля Валери. А сверху за ними не без удовольствия наблюдал взгляд, не лишенный насмешливой злокозненности, — взгляд той, кто, быть может, придумывала их всех, навязывала свою волю, так что неподвижная лодка Дантеса виделась ей застывшей в пепельно-серой глубине, где вокруг зрачка настоящая мешанина: прошедшие века, архитектурные чертежи Пиранези на обоях, манекен Де Кирико на каменных плитах бесконечности и в далеком эхе некогда прозвучавшего смеха менуэты, которые теперь танцевали Арлекин и Коломбина на гладкой воде замершего озера. И кто мог открыть, думал Дантес, медленно делая усилие, чтобы не увязнуть в паутине сотен неудавшихся снов и ложных пробуждений, внешне поразительно подлинных, — поступки, во сне совершённые, наяву лишь намеченные, прочные связи, на деле не существующие, водовороты, стремление выбраться из всех этих ловушек и невозможность преодолеть преграду век и выйти к такому близкому и доступному дневному свету, — так кто же мог открыть истинное имя или истинное лицо того, кто высекал их из небытия и камня? Озеро испещрили тонкие прожилки, одна из них отбилась от остальных и блуждала где вздумается, продолжаясь в небе трещиной, глубокой щелью, и, благодаря анархизму природы, безнаказанно змеилась дальше по земле; сначала Дантес принял ее за грязь и сделал движение рукой, как будто желая стереть ее. Ибо трещина, нисколько не удовлетворенная своим безлюдным маршрутом, до того осмелела, что молнией пробежала по нему самому, хотя он еще силился удержать сомкнутыми створки своего сознания, правда, уже разделенные несколькими миллиметрами черноты. Появился старый вышколенный слуга Массимо, согнувшись в почтительном поклоне, и, фальшиво улыбаясь, подал чашку отравленного кофе на серебряном подносе, затем попятился назад под испепеляющим взглядом посла, был схвачен на месте преступления и предстал перед судьей, и однако продолжал приближаться и пятиться — без сомнения, жертва противоборства двух воль: одна принадлежала Мальвине, другая, заставлявшая его отступить со своим смертоносным зельем, Эрике, которая не могла допустить убийства. Какой яд, какое галлюциногенное питье, парализующее волю, какой наркотик, лишающий одновременно сна и пробуждения, какое ядовитое химическое вещество, зачем, по чьему приказу? Мальвины? Она владела гораздо более страшными и действенными средствами. Тогда на ум приходила другая гипотеза: пытаясь обхитрить свое сознание, он решил отравиться, чтобы в подходящий момент потерять рассудок, и вовсе не из стремления снять с себя вину — дурацкое предположение, потому что с какой стати он, Дантес, должен нести ответственность там, где и не пахнет культурой, Европой, Западом, зато несет невежеством, преступностью, низостью, пошлостью, трупами и упадком человечества? — но пытаясь тем самым не потерять Эрику, всегда быть готовым последовать за ней в иные миры, которые ее подстерегали и которые она уже столько раз посещала. Что она не сможет устоять перед искушением укрыться там, он знал прекрасно и сознательно расстраивал собственную психику, чтобы внезапно не остаться без той, кого он любил превыше всего и о ком не переставал мечтать.
Барон поздравил себя с удачной выдумкой и тем, как мастерски он все выполнил, посеяв хаос и смятение в рядах противника. Он не упустил возможности померяться силами с Временем и показать ему, на что способно творческое всесилие человека, его внутреннего зрения. Прошлое, будущее, настоящее, всевременное были равно доступны этой способности, перешагнувшей через правила, запреты, императивы, указатели, высокомерные претензии на необратимость и весь мрачный диктат установленного порядка вещей. Самым забавным было то, что Сен-Жермен, обладавший тщеславием мэтра во всех видах мошенничества, включая умение вертеть окружающими, и безграничной верой в себя, ничуть не подозревал о своей зависимости, о том, что это существование он получил только по доверенности и преемственности, что оно даровано ему более чем переменчивой волей кого-то другого. А Барон, завлеченный, в свою очередь, этой прочностью, этой видимостью достоверности и незыблемости, которые он создал, заботясь о реализме своей выдумки, чувствовал себя очень уверенным, игроком и очком в игре, хозяином времен и мест, которые он тасовал как хотел, подменяя один век другим по настроению. Не разочарованный и, в целом, даже довольный тем, кем он себя полагал, он короткими затяжками курил несуществующую сигару и разглядывал, слегка наклонив голову набок и как бы с кистью в руке, свое творение, представлявшее Дантеса в лодке, парализованной посреди озера, Дантеса, сходящего на берег, сидящего в своем кабинете в Риме, и Дантеса, борющегося против внутренних сумерек, где блуждали призрачные видения реальности, в то же время, когда он стоял на переливчатом паркете зеркальной гостиной, в одежде французского придворного, в седом парике и шелковых чулках, в пепельно-сером свете вечера или рассвета, пепельно-сером взгляде Мальвины, откуда он силился вызволить увязнувшую лодку.
XLIV
А в это время Дантес, настоящий, который только что причалил к острову и, однако все еще захваченный мертвой неподвижностью мира, пытался освободить весла и даже руки, закованные в мрамор с тонкими серыми жилками, — это явно было невозможно и, казалось, свидетельствовало о том, что речь идет о произведении искусства. Итак, Дантес, освобожденный этим напором и не испытывающий никакой тревоги, а лишь удовольствие от созерцания рисунков на камне, понял, что Время тоже поддалось искушению красотой сцены и вдруг, уступив желанию подилетантствовать, нередкому у пресытившихся и капризных виртуозов, которым надоело исполнять то, что дается им слишком легко, решило остановиться и таким образом создать эту вещицу. Итак, Дантес… Он видел себя, похожего на статую, во множестве зеркал сразу и от этого еще сильнее чувствовал, будто он — чье-то творение. Он сделал несколько шагов по паркету, чтобы доказать себе свою самостоятельность и расколоть мраморный панцирь. Он точно знал, что не Сен-Жермен вел игру, и хотя в течение их встречи, которой не было, в лесу, которого не существовало, он хорошо разобрался в ситуации, зная, что он, Дантес, и никто другой, позволил тогда себе насмешливую и немного фантастичную импровизацию, чтобы рассказом о ней позабавить Эрику, — теперь ничто не казалось ему менее верным. Сосредоточенность Времени в себе самом и внезапное оцепенение природы, которое было сродни камню, тоже были весьма сомнительного происхождения. Объяснение почти непреодолимой трудности, с которой он вышел на берег, а до того вырвал мраморную лодку из пленившего их взгляда, нужно было искать в фальшивой и приторной улыбке — что равносильно признанию вины — дворецкого Массимо и в чашке кофе, которую он подносил ему и в которую несомненно добавили мощный галлюциноген. Бессильные погубить его морально, враги решились на физическое уничтожение. В том веке, к которому относила себя Мальвина фон Лейден, и во Флоренции применение яда было обычным делом. И сейчас Дантес отрешенно и спокойно смотрел на манекен посреди гостиной, бесконечно умноженный в зеркалах, в игре простейших оптических законов, гораздо менее тревожных, чем загадочные чертежи в глубине, на обоях: схемы, диаграммы, планы, цифры, раскрытые циркули и логарифмические линейки — явные знаки чьего-то тайного умысла, которые, возможно, имели к нему более непосредственное отношение, чем он думал сначала. Но отсрочка, наконец-то позволившая ему сориентироваться в центре заговора и сделать неизбежные и ясные выводы, была недолгой. И хотя в этот раз он не выпил зелье, которое протягивал ему дворецкий, — последний испарился, едва его разоблачили, — яд, по-видимому принятый им в течение предыдущих недель, вновь начал действовать, и от его вполне обоснованных страхов не осталось и следа. Повсюду разливалось опасно обманчивое умиротворение. Он увидел, как опускает весла и помогает Эрике сойти на берег. В то же время — хотя его это лишь позабавило, как те игры, которые он сам придумывал, чтобы потом развлечь Эрику, — он услышал самодовольный и лукавый голос Сен-Жермена:


























