Европа
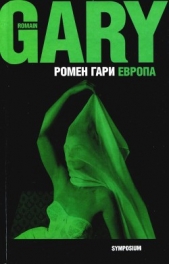
Европа читать книгу онлайн
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
XXXIX
Он вышел на террасу и с удивлением отметил, что в этот увязший в неподвижности час, когда все как будто пользовалось отсутствием Времени, чтобы продлиться, вечерние тени были слабее, чем ему виделось изнутри. Старый мастер ушел, беззаботные мгновения с важностью детей, которые играют во взрослых, притворялись неповоротливыми минутами и тяжеловесными часами. Свет все не переставал угасать. В небе метались ласточки; он повернулся к балюстраде. Шмель врезался в щеку; стихающий стрекот цикад; божьи коровки. Ночь принялась громоздить темные руины под кипарисами и в гуще цветочных клумб, где желтые, красные и белые пятка расплывались в близорукости, смешавшей краски и формы; душные запахи; воздух заряжался испарениями земли; изобилие бормочущих, похрустывающих существ, чье невидимое падение иногда смущало ясную гладь озера; с другой стороны, за островком Санта-Тереза, в неизвестной массе, где уже не были различимы ни кипарисы, ни зелень, — лишь препятствие взгляду, струился легкий ветер, оставляя за собой мимолетное волнение, серебристое трепетание. Слева, перед большой спокойной лестницей, над сумрачными батальонами растительной пехоты, словно пораженными неподвижностью в разгар атаки, вздымалась белая колоннада виллы «Италия», увенчанная легкой треугольной кровлей — геометрия, заимствованная неоклассическим Западом скорее у собственной природы, чем у Акрополя: купола и сферы Востока для нее — все равно что циркуль и счетная линейка для метафизики. Тут были аллеи, статуи и розы; роскошные кусты сирени напоминали пышных вакханок Рубенса; розам искусно придали дикий вид, их запущенность следовала тонкому расчету и точному рисунку; вся эта изысканная одичалость сводилась на нет их манерным ароматом — будуара, любовных записок и признаний вполголоса; молчаливые прилежные осы и мелькающие изумрудные мушки издавали тихое гудение. Дантес ждал, когда Время снова заведет стрелки и придаст разрозненным мгновениям последовательное движение муравьиной колонны; сумерки разрослись в медленно рассеивающейся неподвижности, они как будто окутали сад сетью сновидений, и в ней бились пойманные бабочки-секунды. Время потеряло память. Тогда он увидел, что парк, вода и небо не только не потемнели, но озарились, что свет возвращался, с пренебрежительной улыбкой отметая законы, капризно непослушный, и что само солнце уступало этой вольности, как влюбленный, который, чтобы понравиться, соглашается поучаствовать в детских играх. Небо, уснувшие воды, темный и неясный берег напротив объединились в розово-желтом согласии, и в этой неопределенности, в этой путанице, соучастником которой сделалось солнце, оно превратилось из Цезаря в Арлекина. Тогда он понял, приходя в себя вместе с возвращением света, что ночь уже прошла и этот длительный полумрак был долгим полусном; ход Времени не прерывал церемонию; старый монарх не покидал Эскуриала и не позволил завязать себе глаза, чтобы поиграть в жмурки с днем и ночью.
Он не заметил, как она пришла. Когда он услышал ее смех, влившийся в первые песни рассвета, и обернулся, она стояла у подножия лестницы, одетая в черный пеньюар, словно позаимствованный у ночи. В руках у нее был поднос с фруктами. Кофе, хлеб, в отливах серебра и сверкании хрусталя, осы, которые бросили розы, едва почуяли сахар.
— Вы, наверное, голодный? Один, без прислуги…
— Мне так жаль, так жаль… Я не смог прийти… Я задержался…
— Из-за чего? Из-за кого?
Он провел рукой по лицу, на котором отразились бессонница и усталость.
— Не знаю. Во всяком случае, не помню, чтобы я спал. Вероятно, это был такой коварный сон, когда снится, что не спишь…
— Возможно, вы нашли ключ к тайне… Однажды кто-нибудь действительно проснется, и мир перестанет существовать. Идите сюда. Завтрак подан. Я не могу к вам подняться: терраса видна из комнаты мамы, а она не расстается с биноклем… За вами наблюдают. Помните: мы еще не встретились…
Он спустился.
— Как вы красивы в одежде придворного! И лестница самого что ни на есть семнадцатого века вам потрясающе идет…
Он с легким беспокойством взглянул на свой твидовый костюм… Она смеялась.
— Нет-нет, не пугайтесь, у меня не припадок…
— Прошу вас.
— Но в семнадцатом веке одевались совсем по-другому. Мама говорила, что когда вы с ней жили здесь… в медовый месяц, то ради развлечения носили платье той эпохи… Вам следовало бы взять напрокат гардероб «Пикколо-театро», он сейчас в Перудже — там фестиваль Гольдони, — из уважения к этому месту… Неужели вы не замечаете, как сурово смотрят на вас стены? Вы в своем твиде все равно что газовый завод на площади Сан-Марко. Я очень рада, что вы не пришли вчера вечером.
— О, вы меня успокоили…
— Я ждала вас. А потом, поскольку вы задерживались, я сама вас привела.
— В одежде придворного?
— …Именно так. Это была незабываемая ночь. Вы оказались на высоте моего воображения. Вы отсутствовали… божественно. Спасибо.
— Вот вам и утешение. Теперь, когда меня сравнили с моим двойником из семнадцатого века, я чувствую себя потяжелевшим на сотню тонн. Такой неловкий, такой несомненно присутствующий, неуместный, надоедливый…
— Не волнуйтесь. Я прекрасно вас выдумываю, даже когда вы здесь. Гёте говорил, что это и есть любовь: когда можно быть рядом с кем-то и одновременно его воображать. Если увидеть человека таким, каков он есть, можно, конечно, продолжать любить его, но только потому, что он напоминает вам того, другого, настоящего, которого вы не перестаете выдумывать…
Дантес смотрел на лестницу — там никого не было. У подножия, куда он мысленно вызвал Эрику, лежал гравий — тысячи зрителей с микроскопическими головками, которых этот немолодой человек, поддавшийся разгулу химер, вероятно, поверг в изумление. Взгляд Эрики из-под спутанных темных волос поднимался к нему так напряженно, что он задался вопросом, вполне естественным при утомлении, таком благоприятном для галлюцинаций, откуда искусство порой заимствует свои лучшие творения, — а существует ли он сам, его воображение, или только снится ей? Может быть, и не было никого, ни его, ни Эрики, одна лишь тоска и потребность в любви неизвестного мечтателя, голос чужого одиночества, и все, что в нем ощущало себя живым и свободным, было лишь чьим-то сном. Инструменты невидимого оркестра без дирижера, в котором несуществующие пальцы перебирают струны пустоты; нечто, мнившее себя садом, некто, мнивший себя человеком; не заря, не сумерки, не ночь, но неопределенное состояние, ждущее разрешения, а остальное — крошки другого бытия, бледные отражения совсем другой любви; не лебеди на озере, не гудение насекомых, не небо, по которому стекает жидкая эмаль розово-голубой зари, не вилла-музей, где никто не живет, — да, что-то другое, в другом месте, а здесь — земля, собирающая далекие отзвуки подлинного языка, блуждающие отголоски любви, из которых мы создаем свою скромную культуру… Под взглядом, который его вылеплял, он наконец-то почувствовал, что становится собой, таким, каким самостоятельно не мог сделаться ни он, ни кто-либо еще, как бы хорошо себя ни знал. И вот, приснившийся, выдуманный, прожитый, счастливый тем, что создан вместе с парком, в котором стрекотали цикады, он выходил из этого наброска, по большей части состоявшего из одиночества, где каждый мужчина и каждая женщина пребывают до тех пор, пока не обменяются своими несбыточными мечтами. Потом, через миллионы лет, когда все будет первично, когда ничто никому ничего не скажет, когда все будет идти впустую, перед простым выбором мечтать или умереть человек обратится к несуществующему и населит его своими мечтами. Тогда возникнет несколько цивилизаций вроде Европы, и сейчас, под создающим его взглядом, хотя, может быть, это он его и выдумал, под взглядом любви Дантес отдавал себя встававшей вокруг него другой заре, не связанной более с ничтожными кратковременными играми солнца с землей, но явившейся подлинным сотворением мира, где все освещалось смыслом и где все вечные вопросы теряли ядовитый привкус небытия.


























