Европа
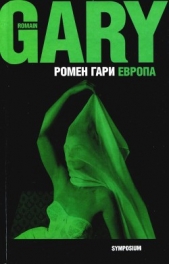
Европа читать книгу онлайн
«Европа» — один из поздних романов Гари, где автор продолжает — но в несколько неожиданном духе — разговор на свои излюбленные темы: высокая любовь и закат европейской культуры.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Он вышел на террасу и с удивлением отметил, что в этот увязший в неподвижности час, когда все как будто пользовалось отсутствием Времени, чтобы продлиться, вечерние тени были слабее, чем ему виделось изнутри. Старый мастер ушел, беззаботные мгновения с важностью детей, которые играют во взрослых, притворялись неповоротливыми минутами и тяжеловесными часами. Свет все не переставал угасать. В небе метались ласточки; озеро отдыхало, нагое, скинув во сне покровы; туман еще нежился в камышах; он облокотился о каменную балюстраду, возле статуи Дианы-охотницы с натянутым луком; шмель врезался в щеку; стихающий стрекот цикад; божьи коровки. Ночь принялась громоздить темные руины под кипарисами и в гуще цветочных клумб, где желтые, красные и белые пятна расплывались в близорукости, смешавшей краски и формы; душные запахи; воздух заряжался испарениями земли; изобилие бормочущих, похрустывающих существ, чье невидимое падение иногда смущало ясную гладь озера; с другой стороны, за островком, в неизвестной массе, где уже не были различимы ни кипарисы, ни зелень, — лишь препятствие взгляду, струился легкий ветер, оставляя за собой мимолетное волнение, серебристое трепетание. Роскошные кусты сирени напоминали пышных вакханок Рубенса; розам искусно придали дикий вид, их запущенность следовала тонкому расчету и точному рисунку; вся эта изысканная одичалость сводилась на нет их манерным ароматом — будуара, любовных записок и признаний вполголоса; молчаливые прилежные осы и мелькающие изумрудные мушки издавали тихое гудение. Дантес ждал, когда Время снова заведет стрелки и придаст разрозненным мгновениям последовательное движение муравьиной колонны; сумерки разрослись в медленно рассеивающейся неподвижности, они как будто окутали сад сетью сновидений, и в ней бились пойманные бабочки-секунды. Время потеряло память. Тогда он увидел, что парк, вода и небо не только не потемнели, но озарились, что свет возвращался, с пренебрежительной улыбкой отметая законы, капризно непослушный, и что само солнце уступало этой вольности, как влюбленный, который, чтобы понравиться, соглашается поучаствовать в детских играх. Небо, уснувшие воды, темный и неясный берег напротив объединились в розово-желтом согласии, и в этой неопределенности, в этой путанице, соучастником которой сделалось солнце, оно превратилось из Цезаря в Арлекина. Тогда он понял, приходя в себя вместе с возвращением света, что ночь уже прошла и этот длительный полумрак был долгим полусном; ход Времени не прерывал церемонию: этот старый прусский генерал никогда не останавливал парад своих войск.
Он не заметил, как она пришла. Когда он услышал ее смех, влившийся в первые песни рассвета, и обернулся, она стояла у подножия мраморной лестницы, распахнувшей перед ней руки, одетая в черный пеньюар, словно позаимствованный у ночи. В руках у нее был поднос с фруктами. Кофе, хлеб, в отливах серебра и сверкании хрусталя, осы, которые бросили розы, едва почуяли сахар.
— Вы, наверное, голодный? Один, без прислуги… Идите сюда. Завтрак подан. Я не могу к вам подняться: терраса видна из комнаты мамы, а она не расстается с биноклем… За вами наблюдают.
Он спустился.
— Мне так жаль, так жаль… Я не смог прийти… Я задержался…
— Из-за чего? Из-за кого?
Он провел рукой по лицу, на котором отразились бессонница и усталость.
— Не знаю. Во всяком случае, не помню, чтобы я спал. Вероятно, это был такой коварный сон, когда снится, что не спишь. К тому же у меня такое странное чувство, что все это уже было, вы стояли здесь, у подножия лестницы, с подносом… О, эта бессонница!
Она покачала головой и сказала, с видом очень серьезным, но фальшиво невинным:
— Так. Боюсь, не мама ли опять сыграла с вами шутку…
Дантес уважал репутации, приобретенные тяжким трудом, а потому ограничился улыбкой. С тех пор как он разыскал Мальвину, он столько раз приходил ей на помощь, что кредиторы стали обращаться непосредственно к нему. Судебного процесса удавалось избежать, а Мальвина делала таинственный вид, ненавязчиво внушавший мысль о высоком и всесильном покровительстве.
— Давайте покатаемся в лодке…
Он взял поднос, и они зашагали к озеру. Черные парусники и прочие ночные бабочки пропали. Рассвет, небо, цветы приветливо улыбались, как в баснях и в детстве, словно вышли из-под пера Лафонтена. Это был прелестный парк, где через каждые десять шагов останавливались понюхать табаку и перекинуться парой слов о бессмертии души, где присаживались на скамейку пофилософствовать в свое удовольствие, играючи свести вечное и бесконечное к масштабам партии в кегли. Смерть отсылали в лакейскую; о ней не говорилось. Народ существовал только в виде народной мудрости или слуги из комедии; все знали, что главное в искусстве жить — это избегать неприятностей и правильно выбирать себе компанию. Слова «смена режима» наводили на мысль лишь о режиме питания. Лодка скользила по воде; Дантес греб, благоговейно вспоминая барбизонцев, мопассановские завтраки на траве. Эрика отгоняла от винограда обезумевшую осу. Она налила кофе, и Дантес бросил весла. Масло таяло, мармелад надо было отбивать у жужжащего противника, пальцы приходилось поминутно мочить в воде, и требовалась индейская хитрость, чтобы управиться с земляничным джемом без участия ос.
XLII
Они причалили к островку Санта-Тереза сквозь шуршание камышей, которые природа придумала, видимо, в минуту любезности, чтобы дать баснописцам и поэтам подходящую метафору поврежденной хрупкости. Островок имел странную репутацию. Взъерошенная растительность скрывала развалины небольшого театра, построенного по образцу театра в Виченце, от которого остался только просцениум, испещренный граффити — даты и инициалы, недолговечные и поэтому всегда с таким смехотворным старанием отмечающие собою все, что имеет хоть какой-то шанс на долгожительство. Вплоть до самого Risorgimento в театре давали любительские представления, а потом, согласно местным архивам, в течение более чем двадцати лет труппы Гоцци и Паоло Луччи ставили здесь Гольдони и даже Шекспира и Бена Джонсона. Сам Луччи, который в своем веке считался самым потрясающим Арлекином со времени появления этого негодяя, несколько сезонов играл там «Арлекина, исправленного любовью» и «Арлекина — слугу двух господ», один раз перед Казановой, и покорил своими кознями и фокусами гостей графа Годи, знатного мадьяра, который незадолго до того скупил все земли и виллы по берегу озера. Но настоящая известность театра имела другое, гораздо более сомнительное происхождение. Неизвестный автор, подписывавший свои пасквили псевдонимом «Лукулл», вероятно, намекая тем самым на солидные репутации, которые он со смаком крушил, — Барчини полагает, что это был врач Удолини из Перуджи, — рассказывает на трех страницах о «необычайных и достоверных сведениях о некоторых возможностях женского голоса».
Эрика немного слышала о любовнице Годи, ее несравненный голос мог бы произвести фурор в «Ла Скала», если бы только те минуты, когда ее талант раскрывался в полную силу, были менее… интимными. Согласно Лукуллу, эту юную особу, которую Годи нашел в доме терпимости, когда ей было четырнадцать, природа одарила свойством столь же редким, сколь и замечательным. Трудно изложить все яснее, чем автор пасквиля: «В пароксизме блаженства это создание пело от счастья, и пение было исполнено такой лирической красоты, что тот, кто обладал девушкой, почувствовав себя гордым творцом этого чуда, выкладывался полностью, возобновляя атаки на пределе человеческих сил, чтобы еще и еще раз вызвать музыку, неповторимую по чистоте звучания и гармоничности, словно возносящуюся к вратам рая, ключ от которого он хранил между ног». Известно, что Годи был большим поклонником оперы и меценатом, влюбленным в искусство; возможно, что его более других прельстило такое доступное поющее сокровище, которое он открыл и над которым стремился утвердить свою власть. Также вполне естественно, что этот меценат, разменявший пятый десяток, довольно быстро истощил свои силы в трудах, чьи плоды соединяли в себе наслаждение чувственное и духовное. Когда тело уже испытало высшее счастье, слух еще предавался наслаждению, неожиданно вытесняя все остальное. Именно в погоне за идеалом и в неумолимой связи причины и следствия часто заключается драма человеческого существования, разрывающегося между стремлением к прекрасному и теми средствами, до которых люди порой согласны унизиться, чтобы достичь его. Очень скоро став импотентом, граф Годи не мог смириться с двойной потерей для тела и слуха. Тогда любитель искусств и заядлый меломан сделался безудержно щедр. Лукулл утверждал, что граф сотнями приводил энергичных любовников на ложе юной Терезы. В то время как они по очереди пускали в ход свой инструмент, граф, сидя на мраморной скамье, пьянел от чудного пения, не имевшего равных во все времена, которое могло бы приумножить состояние мадьяра, если бы он не был так бескорыстен и поддался искушениям алчности.


























