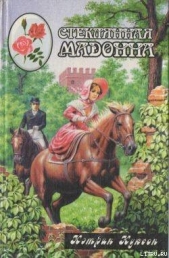Мадонна с пайковым хлебом

Мадонна с пайковым хлебом читать книгу онлайн
Автобиографический роман писательницы, чья юность выпала на тяжёлые годы Великой Отечественной войны. Книга написана замечательным русским языком, очень искренне и честно.
В 1941 19-летняя Нина, студентка Бауманки, простившись со своим мужем, ушедшим на войну, по совету отца-боевого генерала- отправляется в эвакуацию в Ташкент, к мачехе и брату. Будучи на последних сроках беременности, Нина попадает в самую гущу людской беды; человеческий поток, поднятый войной, увлекает её всё дальше и дальше. Девушке предстоит узнать очень многое, ранее скрытое от неё спокойной и благополучной довоенной жизнью: о том, как по-разному живут люди в стране; и насколько отличаются их жизненные ценности и установки. Испытать боль и ужас, познать предательство и благородство; совершить главный подвиг своей жизни: родить и спасти своего сына.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
47
Долго бежала она по темным, неосвещенным улицам, не понимая, куда бежит, лишь бы подальше от этого дома, ей все еще казалось, что ее могут догнать, вернуть, заставить расплатиться за все, что съела и что отдала девочке; она уже знала, как расплачивалась Ляля — никому и никакая она не жена! — и Павла, там, за шкафом… И хотя понимала, что никто не бежит за ней, что вряд ли кто заметил ее отсутствие, разве только тот коротышка, которого она ударила, все равно бежала по гулким улицам, скованным бесснежным морозом, скользила по затянутым хрупким льдом лужам, и перед ней все время всплывали разные картины: блудливая ухмылка интенданта, появившаяся из-за шкафа Павла с блестевшими глазами — боже мой, как она могла? Дрянь, дрянь, и меня туда затащила! — и эти «ученые академики», стряхивавшие пепел в снарядную гильзу. И самое страшное — голодные глаза девочки, когда смотрела она на ломящийся от закусок стол… И я это ела. ела! Она хотела, чтобы ее сейчас же вытошнило, и даже сунула в рот два пальца, прижавшись к длинному дощатому забору, но ничего не получалось, желудок не подчинился ей, он жил своей эгоистичной утробной жизнью и не желал возвращать добычу, ему все равно, каким путем досталась эта добыча!
Она огляделась, соображая, куда теперь идти. Эта улица была ей незнакома, но издалека доносился шум трамвая, и она пошла на этот шум, знала, что любой трамвай довезет до центра.
О времени она не имела ни малейшего представления, но чувствовала, что уже очень поздно, ведь там, перед тем, как она убежала, часы пробили одиннадцать, и уже целую вечность идет она по гулким пустым улицам, не встретив ни одного человека; было темно, лишь кое-где у подъездов горели синие лампочки, они ничего не освещали и лишь обозначали вход в дом, но глаза уже притерпелись к темноте, и она шла, огибая тусклые скользкие «пятачки» на тротуарах.
У нее замерзли ноги в туфельках, на остановке пришлось долго ждать трамвая, а потом, когда он подошел, кондукторша крикнула, что идет в парк, и она опять ждала, притопывая, пристукивая каблучками. Наконец села в трамвай, забилась в уголок: пассажиров в этот час было мало, но ей все время казалось, что эти усталые голодные люди с белыми от синего света лицами знают, где она была, и смотрят на нее с осуждением и печалью. Ах, если бы вычеркнуть этот вечер из жизни и из памяти, как будто его и не было! Она старалась думать о чем-нибудь другом — Ира Дрягина летает там, на фронте, бомбит немецкие аэродромы, про нее уже писали — но тут же выплывала мысль: а я? Я-то что делаю?.. И опять уводила мысль от этого вечера. Лавро в блокадном Ленинграде, жива ли? Говорят, там умирают от голода — а я? Я сегодня ела то, что украдено у других… Опять перед ней прокручивалась картина: разделенная длинным шкафом комната, Тамара с таинственной улыбкой «Сейчас туда нельзя», приглаживающая волосы Павла. Подлая, подлая дрянь, муж на фронте, а она?.. Вот я покажу ей стихотворение Симонова «Письмо женщине из города Вичуга», пусть прочитает!
Стихи эти вырезала из газеты и принесла на работу Фира, все читали их, а Нина даже переписала, ее потрясли эти стихи. «Я вас обязан известить, что не дошло до адресата письмо, что в ящик опустить не постыдились вы когда-то…» Она заучила их наизусть и пыталась тогда представить себе ту женщину, красивую дрянь, и думала: как бы ни сложилась ее жизнь потом, сколько бы ни прошло лет, до самой старости стихи эти будут с ней рядом, ведь их не отменишь уже, и как она будет прятать эти стихи от своих детей и друзей… Но они все равно есть и будут. А теперь ей казалось, что это стихи о Павле Бурминой, о женщине из города Саратова, которая сказала про своего сына: «Для Бори нет войны!» Но ведь так не бывает, чтоб для всех война была, а для нее и тех «академиков» не было! Нина все еще видела ту горку хлеба, белого, пухлого, такого не выдавали по карточкам, и соседскую голодную девочку в платке — в этом несоответствии и было самое главное уродство, стыдное, запретное, которое нельзя забыть. Кругом война, на фронте, и здесь, она в хлебных очередях, в синих лампочках, в бомбежках, в лицах вот этих усталых людей, в похоронках, а посередине войны — они за наглым бесстыдным столом… И жрут, жрут… И я жрала!
На Октябрьской улице она вышла и побежала, громко постукивая каблучками, ей хотелось, чтобы с ней случилось что-нибудь такое, что отодвинуло бы воспоминания о той комнате, но ничего более ужасного, чем та комната, сейчас не существовало для нее. Пусть бы даже на мосту ее остановили грабители, да и какие это грабители, главные-то грабители — там, за столом…
На мосту никого не было, ветер гнал по нему бумажки, пахло печным дымом. Она быстро спустилась по лестнице. По оврагу плавал туман, и у нее сразу отсырёли под беретом волосы и стали влажными руки. Опять идет зима, подумала она. Если будет такой же, как прошлая, то лучше уж не жить…
Она вошла в дом, и ее обдало запахом, теплой сырости, на столе горела лампа — редкая роскошь, маленький язычок копоти лизал стекло; на плите сопел чайник. Евгения Ивановна, пригнувшись к кружочку света, вязала, серым котенком «играл» на ее коленях мягкий клубок… Таким уютным и родным показалось все это Нине, что в ней сразу все ослабло, помягчело.
Ночью ее мучили кошмары — то она падала с большой высоты, то бежала по длинной анфиладе комнат и. кто-то гнался за ней, она не знала кто, и в этом был весь ужас… А под утро приснилось, что вязнет в отвратительной, заваленной ржавым железом жиже, никак не может выбраться, а на берегу стоит Павла, хохочет, указывает на нее пальцем и кричит: «Золотая Нино!.. Золотая Нино!..»
Захныкал Витюшка, и она проснулась. Господи, сколько же будет меня мучить все это? Лицо ее заливал пот, она чувствовала, как скапливается он в глазницах и как от него щиплет глаза.
Было тихо, что-то шуршало за стеной, четко отстукивал маятник ходиков, где-то далеко надрывно выла собака.
48
Еще в сентябре Никитка прислал фотографию, Нина сперва и не узнала брата — на нее прищурен- но смотрел широкоплечий парень в гимнастерке и пилотке со звездочкой; выгнутая бровь, и прищур, и плотно сжатые губы придавали лицу незнакомое, «взрослое» выражение, и только в чуть оттопыренных ушах осталось что-то прежнее, мальчишеское.
В последний раз Нина видела его летом сорокового, когда приезжала в Орел на каникулы, и сейчас удивилась, как эти два года изменили брата. И дело было даже не в том, что Никита вырос, возмужал — он всегда был рослым и широким в кости, весь в отца, — но в лице его теперь угадывался какой-то взрослый опыт, хотя какой же опыт может быть у пятнадцатилетнего мальчика?
Нина всматривалась в это новое лицо со знакомыми чертами — широкий в конопушках нос, крутой «фамильный» лоб, глубоко сидящие глаза, — и ей казалось, что это вовсе не Никитка, а молодой отец, таким он запечатлен на снимке двадцатых годов: в длинной шинели с петлицами по борту, в фуражке с лихо выбившимся русым чубом, и в руке — шашка, обнаженная для мальчишеского форса. Нина хорошо помнила эту фотографию из семейного альбома и как мать, смеясь, рассказывала, что в отце ее пленили тогда чуб и эта шашка.
Никитка, как водится, передавал боевой привет, сообщал, что жив и здоров, помогает бить фрицев, что научился стрелять из ППШ, а скоро у него будет и личное оружие — сержант Малыгин обещал подарить трофейный браунинг.
Нина не знала, что такое ППШ, и была уверена, что насчет «бить фрицев» и браунинга Никитка привирает — кто же даст мальчишке настоящее оружие и пошлет бить фрицев? «Между прочим, — писал Никита, — я нахожусь не так уж далеко от тебя…», а дальше две строки были густо замазаны черной мастикой, и как ни старалась Нина, ничего прочесть не могла.
Евгения Ивановна пустила догадку: уж не под Сталинградом ли он? Но для Нины главными Словами в письме были «жив и здоров».
В конце он писал, что соскучился, спрашивал про отца, просил прислать ему одно из последних отцовских писем, но писем от отца не было уже три месяца, мачеха тоже о нем ничего не знала и собиралась послать официальный запрос.