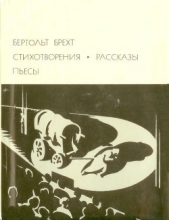В облупленную эпоху

В облупленную эпоху читать книгу онлайн
В этот сборник, третий по счету из составленных Асаром Эппелем для серии «Проза еврейской жизни», вошли рассказы семнадцати современных авторов, разных по возрасту, мироощущению, манере письма. Наряду с Павлом Грушко, Марком Харитоновым, Владимиром Ткаченко в книге присутствуют и менее известные, хотя уже успевшие завоевать признание авторы. На первый взгляд может показаться, что всех их свела под одной обложкой лишь общая тема, однако критерием куда более важным для составителя явилось умение рассказать яркую, заставляющую о многом задуматься, историю.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Разве сейчас есть такие прекрасные лекарства, как стрептоцид, но красный? Хорошо хоть оставили синий свет и пиявки не отменили! По тогдашним согревающим компрессам люди до сих пор тоскуют! Да чего там говорить! Он-то в основном тоскует по пене. По шипучей пене, чьим шипением он распоряжался как хотел. Возьмет, подкрутит — зашипит, как истертая патефонная пластинка, подкрутит еще — как я прямо не знаю что…
Ничего подобного не мог предоставить клиенту, чтобы тот, напившись, от души произвел отрыжку, его соперник Райзберг (пусть бы он сдох, и он таки в нашем рассказе сдохнет!).
Конечно Самуил, сообразно своему преклонному возрасту, заподозрил, что сейчас речь о другом газе, а именно о саратовском, потому что все газеты только о нем и пишут, и он смутно понимал, что если газ и проведут, то это будет не совсем то, и «сельтерская» вода, наверно, окажется с привкусом, но что из этого? Учтем и приспособимся. Десять капель кагору из расчета на стакан, и люди забудут про любой привкус, а если достать где-нибудь бутылку шустовского коньяку… (Помнишь ли ты, дорогой Самуил, шустовский коньяк? — красиво спросил его недавно слепой старик со Второго проезда.)
— О чем ты говоришь?! — очень ловко ответил Самуил, а ловко потому, что доносчики никак не могли бы повернуть эти слова против хитрейшего Самуила. Можно было трактовать их так: «О чем ты говоришь? Как это я не помню?» А можно было повернуть: «О чем ты говоришь? Как это я могу такие вещи помнить?»
Ходили слухи о каком-то грузине Лагидзе, чью газировку обожает весь Кавказ. Воды Лагидзе! Ну и что? Подумаешь! Он сразу же взял и тоже придумал неплохое название: «воды Скалоладзе». Выйти на рынок с таким названием было бы ой-ой-ой! Но он укорил себя за легкомыслие: «А „воды Джугашвили“ не хочешь? Почему бы тебе не продавать в тридцать седьмом году воды Джугашвили?»
Раздвинув доски, Самуил Акибович стал глядеть на авантажный когда-то голубой короб, в котором помещался лед, аккуратно получаемый им с одного места, потом обозрел оба замечательных колеса с хорошими спицами, на которых устройство бесшумно катилось. Сейчас шины на колесах сдулись, вес тележки на них надавил, и колесные обода прижали сплющенные резиновые шины к сарайной мягкой земле. На боку тележки было написано беспризорниками двадцатых годов плохое слово, но не то, на которое вы подумали, а другое — женское. Колбы, в которых когда-то красовался и из которых наливался сладостный сироп, он в свое время снял, чтобы не разбились, и сейчас они лежали дома в мягком тряпье нижнего ящика комода, причем на каждую был для пущей заботы и безопасности надет длинный шерстяной ношеный носок.
Нужный для работы лед, большими кусками уложенный в тележку, становился внутри голубого короба скользким глянцевым и холодным-холодным, так что сельтерская делалась студеной и хорошо освежала в жару, и была что-то особенное.
Но откуда этот замечательный лед доставался? Где его брали в переменчивые тогдашние времена, не говоря уже до сих пор?
Откуда! Мы же сами рассекретили это место, оповестив когда-то читателей, так что повторимся:
…На Пушкинском рынке был айсберг, вернее, видимая глазу часть, утесистой громадой воздвигшаяся на стареньком асфальте.
Видимой частью айсберга громадная гора названа потому, что невидимая работа по ее воздвижению была и вовсе грандиозна.
К зиме из черной, положенной на землю кишки начинала бежать водопроводная вода. Она растекалась по асфальту, стылому и лунному на ощупь, каким бывает всякий асфальт в канун декабрей, — не то что в июле, когда он спекшийся, мягкий и горячий; но про июль после, а сейчас студеная вода растекается по студеному же асфальту и примерзает своими прозрачными молекулами к окоченевшим на низком ветру серым молекулам последнего. А вода из кишки все растекается, и на лед наслаивается новый лед.
Но как же кишка? Она же, забытая на асфальте, вмерзла в первый лед! Нет! Не вмерзла. Невидимая, но умелая рука особого человека, существующего на Пушкинском рынке, с помощью толстой веревки вздергивает водолейную эту кишку на специальные шесты, причем оставляет ее висеть низко, чтобы лед нарастал слоями, не то, если вода пойдет хлестать без разбору, осложнится грядущее засыпание горы опилками. (До чего же все похвально и обстоятельно было нами подмечено!)
Всю зиму течет вода, и всю зиму растет ледяная гора. В феврале она еще сидит тусклой громадиной, матовой от набившегося меж студеных желваков сухого снега, но уже в марте — где-нибудь к середине — засверкает вдруг под лучами солнца алмазная наша гора, однако вода пока еще льется и намерзает пока, а вот когда лучи солнца пойдут шкодничать, то есть греть ей низы так, что асфальт, с которого уже неделю как сошел снег, потемнеет по кайме от талой уже воды сантиметров этак на двадцать, тут не мешкай, перекрывай кишку, хватит ей текти! Бери кайло, заткни жене хайло и вырубай в горе ступеньки, и совершай восхождение в особых шероховатых галошах, да оденься потеплей, штаны надень, слышь, ватные, не то яйца застудишь; а взойдешь на маковку — втаскивай на маковку ведром привязанным опилки, которые у подножья наваливает баба твоя, да поживей рассыпай — сперва тонко, а потом каждый день утолщай слой-то, увеличивай! — а снизу подкидывает пусть баба твоя.
И будет стоять наш ледник, как горный ледник, подтекая слегка, как горный ледник, а фамилия его создателя и хранителя, между прочим, Федченко, а фамилия первого газировщика, который подкатит свой сатуратор к засыпанному опилками айсбергу, будет Райзберг (опять этот прохвост дал о себе знать!), и Федченко разметет опилки на северном скате, и первому отколет Райзбергу (он снова тут!) ломиком лед, и это место впредь уже не будет засыпано опилками, и вылом будет увеличиваться, обнаруживая после каждого нового скола сине-белые свои геологические слои; а вокруг горы как получилась в марте темная кайма, так и останется на асфальте темная кайма талой воды. На южном склоне она к июлю здорово расширится, и потекут кое-где водяные нитки под мешки торговок семечками, но эти тонкие и плоские темные полоски нельзя даже и сравнивать со страстной струей из декабрьской кишки… А первый — помните? — мокрый след елочкой, оставленный шинами двухколесной Райзберговой тележки, — этот так никогда и не высохнет, хоть на дворе тебе лето, хоть июль…
Но и Самуил, но и Самуил Акибович попользовался замечательным этим ледником, а продоха Райзберг был ему не страшен. В голубом коробе у Самуила даже в самый жаркий день лед сохранялся дольше, потому что короб был обшит изнутри белыми асбестовыми листами в три слоя! А Самуил, бывало, так ухитрялся наследить елочкой, что знающие люди просто удивлялись.
А когда Райзберг все-таки умер, Самуил Акибович как сосед и коллега ходил его хоронить. А как же иначе?
Теперь же Самуил Акибович стоял, глядел и даже подумывал, не заняться ли снова знаменитой своей сельтерской водой, и сам себе удивлялся. Само уже слово «газ» возбудило его. Чего только не придет в голову, когда государство проводит что-нибудь бесплатно.
Однако раздумья по поводу неслыханного случая — неудачной попытки покончить с собой его соседа Государцева, изменили ход мыслей Самуила Акибовича, и он, по-советски не одобряя столь недостойную человека слабость, пошел с ним поговорить как общественник — старший по нашему проезду.
Последнее время Государцев, как всегда одолеваемый своими внезапными мыслями, а заодно неуспехом у одной упитанной и с булыжным бюстом женщины, прописанной на Домниковке, куда впустую съездил два раза, решил покончить с собой, и над тем, как наложить на себя руки, упорно раздумывал, но ничего не мог придумать. Выброситься из окна — не получится, у нас дома одноэтажные и приземистые, так что удариться как надо об землю не выйдет. Употребить крысиный яд — он, наверно, мерзкий на вкус, и потом обязательно начнется рвота. Застрелиться? Из чего? Из пальца? У Святодуха (о нем пойдет речь дальше) есть духовое ружье, и даже если он его на время одолжит, пулек к нему не даст никогда, он же за пульку удавится!