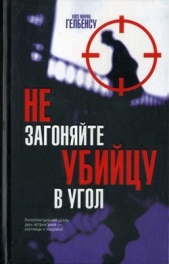Личное дело игрока Рубашова

Личное дело игрока Рубашова читать книгу онлайн
В Петербурге на рубеже XIX и XX веков живет Игрок. Околдованный и измученный демоном игры он постоянно поднимает ставки. Марафонский танец по нелегальным игорным домам столицы Российской империи заканчивается лишь роковой ночью, когда ставкой в игре стала сама жизнь. С этого момента начинается печальная и причудливая одиссея героя длиною в век…
Автор знаменитого исторического бестселлера «Ясновидец», завоевавшего Европу, писатель и бард Карл-Йоганн Вальгрен в очередной раз удивит и покорит читателя своей безграничной фантазией. Его пессимизм не безнадежен, оптимизм — ироничен. Доктор Фауст XX века сталкивается с совсем иными проблемами, чем его литературный предшественник…
В романе Карла-Йоганна Вальгрена «Ясновидец» удачно соединилось все то, что в последние годы любят европейские читатели. Исторический сюжет, мистический флер, любовная линия, «готические» ужасы и тайны, тема уродства и «изгойства»… Те, кому нравится Зюскинд, наверняка оценят и Вальгрена. В Европе оценили — там он уже давно человек-бестселлер.
Андрей Мирошкин. «Книжное обозрение»
Скандинавские фантазии покоряют мир. Очередной «необычный человек со сверхвозможностями»… С любовью, которая побеждает все, моральным выбором между Добром и Злом, поступками, ведущими к еще большему утверждению в истине через раскаяние. С преследованиями, местью, кровавыми разборками и прочими атрибутами культурного досуга. С меткими социальными зарисовками и компендиумом современных научных представлений о природе слова и мысли, специфике слухового восприятия. И плюс неисчерпаемый авторский оптимизм в отношении будущего развития событий по самому замечательному сценарию. Заклятие словом и делом. Пища для ума, души и сердца.
Борис Брух. «Московский комсомолец»
«Меня сравнивают с «Парфюмером» Зюскинда, может быть, потому, что это тоже исторический роман. И потом, у Зюскинда, как и у меня, есть некий причудливый тератологический ракурс. Я, конечно, польщен этим сравнением, но оно все же поверхностное, и большого значения ему я не придаю. Мой роман и более толстый, и, я думаю, более умный».
К.-Й. Вальгрен. Из интервью «Газете»
Автору удался горизонтальный размах повествования, когда в основную сюжетную канву, на которой вышита печальная история настоящей и поистине удивительной любви Красавицы и Чудовища, то и дело суровыми нитками вплетаются истории другие. Церковные детективы, как у Умберто Эко. Гипертекстовая мифология, как у Милорада Павича. Эпистолярные интриги, как у Шодерло де Лакло…
Ан нет. Не дается он так просто в руки, этот безумно популярный и модный шведский бард Вальгрен. Прячет междустрочно силки-ловушки, в которые читающая Швеция попалась тиражом более 250 тысяч экземпляров, европейская читательская публика с удовольствием попадается многажды.
Елена Колесова. «Книжное обозрение»
…Автор тащит из всех исторических бестселлеров конца прошлого и позапрошлого веков с такой беззастенчивостью, что диву даешься, как эта машина, собранная из чужих запчастей, едет все быстрее, а в середине даже взлетает…
А главное, становится понятен и замысел — не просто подражание, но полемический ответ на «Историю одного убийцы» (подзаголовок «Парфюмера»). Гений и есть злодейство, утверждает Зюскинд. Хрен тебе, вслед за Пушкиным уверенно говорит Вальгрен.
Дмитрий Быков. «Огонек»
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот как! Часовщику известно его имя. Забавно. Он не помнит, чтобы он представился. Впрочем, он не помнит даже, как сюда попал. Снова провал памяти. О, эти провалы, короткие замыкания, белые пятна забвения…
— Почему вы пьете, Рубашов?
— А что? Вас-то это с какой стороны касается?
— Вы правы — меня-таки это не касается. Всему свое время. Любить. Пьянствовать. Сейчас это поговорка, но для наших предков так оно и было. Для всего было отведено свое время. Время чинить часы. Пасти животных. Часами такое время не измеряется. Наши прародители подняли бы нас на смех. Каждое дело заключает в себе свое собственное время, как и весь мир.
Прародители? Собственное время? Если и есть время, разительно отличающееся от общепринятого, то это время пьяниц. Прошлое в тумане, будущее — карта в колоде. Человек живет только настоящим, текущим моментом (как может момент течь, мутно подумал он, дичь какая-то). Плевать на завтра, шепчет ему демон пьянства, забудь вчера. Делай, что тебе хочется сейчас… Пей и оплакивай ушедших… что он и делает. Хотя он понимает, что в реальности этой женщины и не было. Если бы он был смертным, и к тому же каким-нибудь животным, например лебедем, он давно бы уже умер от тоски по ней. Ушел бы глубоко в лес и лег под первым попавшимся кустом, чтобы никогда более не просыпаться, ибо он любил ее безгранично. Не меньше, чем любил некогда жену, хотя новая любовь и не вытеснила первую, они существовали каждая в своей сфере, потому что любовь нельзя сравнить с другой любовью. Любовь вообще ни с чем нельзя сравнить. Но ее уже нет. Может быть, ее и не было — призрак, пешка в игре, называемой бессмертием, дуновение ветра, ее просто унесло из того проклятого времени, как горстку пепла, как ветер уносит туман… Нет, признаемся, мы поступили излишне жестоко.
— Уважаемый часовщик, можете ли вы объяснить мне одну вещь?
— Слушаю вас.
— Что я здесь делаю?
— Что вы здесь делаете, господин Руба-шов? Вот это вопрос! Вас давно ждут…
Это его удивило. Его ждут? Этот часовщик еще и совладелец ближайшей распивочной? Какая разница, думает он. Все равно ничего не осталось. Только пить. За ваше здоровье, господин часовщик… давайте забудем про ваши часы и ваше время… Давайте выпьем. На восьмой день Господь создал самогон, чтобы люди могли забыть мерзости творения… Так оно и было — спирт помогал ему забыться. Спирт и ненависть. Он ненавидел свое окружение. А окружение… что ж, признаемся, — окружающие ненавидели его, Николая Рубашова. Они плевали на него, когда он валялся в парках, они сажали его в клетки вытрезвителей, они показывали на него пальцем, когда он, томимый неизбывным горем и непомерным количеством спиртного, шатаясь, брел по улицам города, плача и бормоча, словно деревенский дурачок.
— Посмотрите, — часовщик остановился у четырехугольного ящичка. — Рубашов! Посмотрите! Секундомер Тэйлора. Девятнадцатый век. Индустриализация. Время — деньги. Они так считают: время — деньги. Аккордные подряды, рационализация времени, машины, конвейер, штампованные часы. Выиграть время. Что за идиотское выражение! Думали ли вы когда-нибудь, Рубашов, что сегодня фабричный рабочий производит за единицу времени во много раз больше продукции, чем пятьдесят лет назад? А поэт? Скажите — как вы думаете — поэт может выиграть время? Разве написать стихотворение сегодня занимает меньше времени, чем тогда? У стиха свое собственное время. Его можно написать за час или за неделю, но время у стиха свое. Поэты не стали писать быстрее. Зато они стали дороже обходиться обществу. Кому по карману содержать поэтов? И кому по карману тратить время на писание стихов? Поэты вымирают… Разве не странно, что мир стал таким, каким он стал?
Бог мой, что за мрачная дыра! Бесконечный коридор, пыль, паутина, выживший из ума часовщик… А там, в глубине космоса, человек… Невероятно! Вот вам и рационализация. Вот куда их привели время и прогресс. В космическое пространство!
— Прошу прощения, я, разумеется, не вполне трезв, вы совершенно правы… но вот сейчас все говорят о возможности полета на другие планеты. Мне вдруг пришло в голову — а может быть, там рай? Простой, естественный рай, сад радости, населенный какими-то иными существами… Как вы считаете, это возможно?
Он ощутил необыкновенную ясность. Так бывало — спиртное вдруг дарило остроту мысли, лучи концентрированного света невыносимой яркости… Но если там и есть рай, вдруг пришло ему в голову, смертные испохабят его: они посеют зло и будут, хохоча, собирать свой гнилой урожай, потому что таковы люди. Пропащее племя.
— Вы что-то сказали, господин Руба-шов?
— Нет-нет. Ничего важного…
— Я как раз подумал… Как вы себя чувствуете? Вы очень побледнели.
— Вы, такой образованный… такой умный… все знаете о часах, о механических, штампованных, песочных… можете вы объяснить бедному дилетанту, о чем идет речь?
— Что вы имеете в виду, господин Рубашов?
— Время… Для чего нужно это проклятое время?
— Господин Рубашов! Вы соображаете, что вы такое спрашиваете?.. По-вашему, я кто? По-вашему, я Бог?
— Какая разница, кто вы… Я хочу, чтобы мне объяснили… Вы когда-нибудь слышали о таком заболевании — передозировка времени?
Часовщик открыл люк в напольных часах. Обнажился сложнейший механизм — шестеренки, маятники, балансиры, пружинки, цепи, звоночки… Он завел часы серебряным ключиком.
— Блаженный Августин считал, что время течет в нашем сознании, как взбитые сливки, выдавливаемые через шприц. Другие утверждают, что время — это определенное количество проходящих «сейчас», а это самое «сейчас» — это и кратчайший, и самый длинный интервал, воспринимаемый человеком, как «миг» или «момент». Есть еще такие, кто уверен, что время — своего рода нервные импульсы. Нейроны в нашем мозгу, говорят они, посылают сигналы, пятьдесят сигналов в секунду, и эти сигналы, как ток по проводам, бегут по нашей нервной системе. Бесперерывно, всю жизнь, тикают в нас эти часы… Сам-то я думаю, что в нас существует сразу несколько видов времени. Минувшее живет в нас в виде памяти, но память у людей разная, и ничье прошлое не похоже на прошлое другого человека… Поэтому и время у каждого свое. Так и живем мы сразу в тысяче времен, подумайте, в тысяче, а то и больше, и все они пересекаются в нашем сознании и оставляют неизгладимые следы… у каждого — разные.
Николай Дмитриевич снова приложился к бутылке. Какое ему-то дело до времени? Пусть оно ведет себя, как угодно — ползет, карабкается, пятится, извивается, словно уж, или прыгает через скакалку… или спит, нахлобучив шляпу, в итальянской траттории… Какое ему дело, где оно, это время — вверху, внизу, справа, слева, какая у него длина и ширина, присутствует оно везде или разлито по бутылкам… Ему все равно, он хотел только одного — тонуть все глубже в убаюкивающем озере алкоголя, забыть все… О, Мария Медея, блеф, иллюзия, последняя любовь. Как можно забыть ее? Кипящая плазма чувств, субботний хлеб его сердца… Как жена была она ему, как сестра и мать, как друг и исповедник в тяжелые минуты. Ее вырвало у него из рук время, вырвало с корнями и бросило на свалку истории, но вина в этом не только времени, самое страшное, что виновато не только время, виновны… мы…
Он остановился у тяжелой дубовой двери с ржавыми петлями.
— И даже в том, что касается истории, часы тоже нас обманывают, — грустно сказал мастер. — Если им верить, история остается позади нас. Событие произошло, и время вышвыривает его на берег, а мы плывем по реке дальше… вот что часы стараются нам внушить. Но так ли это? Как вы думаете, Рубашов? Оглянитесь-ка на собственную историю и скажите честно — разве она не изменяется постоянно? Разве вы не оцениваете ее каждый раз по-новому, не переистолковываете? Ни у кого, кажется, нет сомнений, что сегодняшние события влияют на будущее, но они влияют и на прошлое! Они бросают на него совершенно иной свет… и не успеешь оглянуться, как история вступает в совершенно новые отношения с вашим «сейчас»… Прошедшее так же живо и так же подвижно, как и настоящее. Оно тоже плывет по той же реке времени, может быть, по другому рукаву, но река-то та же самая… А вещи? Разве вещи не плывут во времени рядом с нами? Гляньте-ка, Рубашов, вот эта дверь сделана в четырнадцатом веке… шестьсот лет назад…