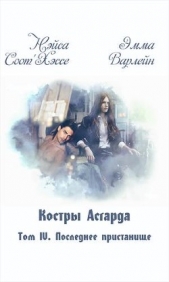Размышления о чудовищах
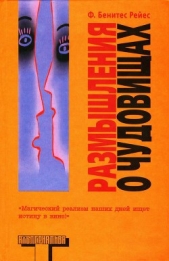
Размышления о чудовищах читать книгу онлайн
Философские откровения за стойкой ночного бара…
Пьяные прозрения — и великолепный, циничный юмор…
Эпос повседневности — и высокая поэзия одиночества…
Любовь и поэзия, дети и животные, авантюры и приключения…
Размышления о суете всего сущего человека, познавшего, что истина по-прежнему в вине?
Да, но служит этот «философ несбывшегося» в полиции!
И это — лишь первый из сюрпризов, который готовит читателю Фелипе Бенитес Рейес…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
(— В своем доме я тыкаю кого хочу и чем хочу, — был ответ мелкого.)
Молекула пришелся настолько не по душе поэту Бласко, что через несколько дней после нашего посещения Павильона он прочел нам литанию, написанную в честь того:
— Но что за подлости и коварство чинил Молекула, чтобы вызвать подобное обращение и подобные стихи? — спросите вы.
Именно об этом я и намереваюсь рассказать. Так что не трогайтесь с мест.
Итак, это может показаться грубой выдумкой, небылицей, рассчитанной на дешевый эффект, но дело в том, что реальность тоже может быть очень грубой и рассчитанной на дешевый эффект: у Молекулы был брат, унаследованный вместе с морозильной фабрикой, — паралитик и монголик [35], который больше всего на свете любил пиво, потому что ему не хватало дополнительных лабиринтов внутри великого лабиринта. Этот несчастный, по имени Паскуаль и по прозвищу Снаряд, все время находился в Павильоне, катаясь туда-сюда в своем кресле на колесах, словно странствующий рыцарь, избранный злосчастьем, и почти всегда он был накачан пивом по самые брови, потому что Молекула поощрял этот его порок, пьянство, и пиво образовывало опасную смесь с лекарствами, которые он принимал, чтобы облегчить случавшиеся с ним приступы ярости, и вот Снаряд курсировал там, передвигая свое кресло с осоловелой неуклюжестью, как будто участвовал в родео на безумной лошади, путаясь в кнопках и скоростях, раб неисправимого зигзага, — он казался не человеком, а космической ракетой под управлением пьяной обезьяны.
— И что?
Так вот, при виде этого тревожного зрелища Молекула, недоступный сочувствию не только братскому, но и сочувствию вообще, смеялся так, что у него тряслись щеки, и, дабы продлить веселье, показывал всем, какие усилия предпринимает Снаряд, чтобы объехать препятствие, на которое его занесло: как он снова и снова сталкивается со стеной — задний ход, и снова в стену, мученик своего моторного средства передвижения; или же он привлекал внимание публики к тому, как дрожат пальцы несчастного, когда он нажимает на кнопки управления креслом, или же он сам начинал тыкать в эти кнопки, чтобы кресло взбесилось, под похожим на взгляд мертвой рыбы взглядом Снаряда, пьяненького, отупевшего, находящегося где-то в Монголии.
(— Я делаю ему эвтаназию, — говорил Молекула, наливая Снаряду выпить.)
(Это с одной стороны.)
С другой стороны, узнав от Хупа настоящее имя Молекулы, я стал рыться в полицейских архивах, и мне удалось раскопать информацию о звездных делах, осуществленных этим плевком Бога в болотах преступления: несколько афер, одно хищение, набор потасовок с различными последствиями, участие в налете на аптеку и, наконец, самый перл: четыре приговора за совращение малолетних обоего пола и восемнадцать заявлений о попытках совращения малолетних. (Любитель несовершеннолетних.) Молекула был любителем несовершеннолетних, и полагаю, хотя и не знаю точно (?), что эти его сексуальные наклонности определялись каким-то психологическим фактором, сваренным во фрейдистском котелке: маленький Молекула в поисках людей своего роста? Подсознание маленького Молекулы, застывшее в детской сексуальности, ставшее на якорь в ошеломлении первоначальных телесных открытий, под надзором тысячи глаз, в том числе мстительного ока Закона? (Возбуждающий ужас, это кровавое облако в сознании…) (Он, жаждущий разделить с девочками и мальчиками игру горячечных рук, шарящих под плиссированными юбками, расстегивающих пятисантиметровые молнии…) (Молекула, любитель малолетних.) (Тридцать два года, и восемь из них — в тени.) (И два незавершенных суда.)
Молекула любил рассказывать анекдоты собственного сочинения, над которыми смеялся только он сам:
— Идут два человека по полю, и один говорит: «Какое большое поле!», а другой ему: «Это ты большой, золотце мое!», и они отправляются в доисторическую пещеру и делают трах-трах.
(И Молекула смеялся, показывая маленькие зубы, и ему было все равно, что никто не смеется, ведь у него в голове было полно тараканов, и эти тараканы, шевелясь, щекотали ему губчатые клетки мозга, и, смеясь, он закрывал глаза, казавшиеся одним-единственным глазом.)
Помимо всего этого (и помимо моего видения его сердца, где живет агонизирующий скорпион), оказалось, что Молекула — друг Кинки. Вследствие этих связей назойливый Кинки стал посещать Ледяной Павильон, и я часто встречал его там –
(— Одолжи мне пару бумажек), –
потому что, хоть мне и трудно в этом признаться, я стал завсегдатаем этого грота идей.
— Почему?
Ну, это очень просто: по вине Того, Кто Был И Кто Уже Не Есть.
— Тот, Кто Был И Кто Уже Не Есть?
Именно: это был необычный и концептуальный псевдоним, при помощи которого представился перед аудиторией Ледяного Павильона человек лет сорока с небольшим, пикнического телосложения и почти лысый, с очень сильно изъеденным лицом, легкий на язык, с шокирующими понятиями о вселенной вообще: от белья до музыки сфер, касаясь всего остального, — а это почти бесконечность, ведь ничто не ускользало от его рассуждений, разглагольствований и словесных излияний: подо все он подводил теорию, мутную или ясную, или и то, и другое одновременно, что часто случалось: перемежающееся равновесие между аналитической ясностью и экзегетическим бредом.
У этого человека была тяжелая походка, как будто внутри него двигалась повозка из плохо сочлененных костей, и глухой притягательный голос. Его первые слова были примерно следующие:
— Я был главным героем космической трагедии, а теперь я второстепенный персонаж жизни. Я был тем, чем уже не являюсь и не буду, я вдовец самого себя, и хочу, чтоб вы называли меня Тот, Кто Был И Кто Уже Не Есть, потому что я именно таков: агонизирующее становление.
(И он театрально склонил голову, несомненно, для того, чтоб подтвердить свою сущность агонизирующего становления.)
Первая речь Того, Кто Был И Кто Уже Не Есть, оказалась достаточно хаотичной, потому что он принялся препарировать разнородные темы с применением техники термомикс, но видно было, что перед нами — не бездельник вроде приверженца алгебраических диет (так сказать) или поэта с потоком рифм, а бездельник более сложный. Этому типу, с его головокружительными логомахиями и с его систематизированными бреднями, удавалось увлечь и удивить слушателей, у которых дух захватывало от его блуждающей стратегии, потому что он переходил от разглагольствований, ну, скажем, о фрейдистской теории нарциссизма, например, к захвату врасплох совершенно неожиданной темы:
— …Но оставим, наконец, этот вопрос и отправимся к другому, более веселому и праздничному. Свободная любовь, например. Что такое свободная любовь? Когда как, не правда ли? Большинство из нас может представить себе только, как мы входим в бордель с чемоданом, набитым деньгами и кредитными карточками. Это наиболее распространенная утопия. Но существуют более оптимистические и прихотливые утопии, само собой разумеется. Чтобы далеко не ходить, движение хиппи выступало за свободную любовь. Да, но кто за нее выступал? Блондинки-лютеранки с распущенными гривами и пышными белыми грудями? Не совсем так, верно? За нее выступали скорее косматые типы с апостольскими бородами, по уши обдолбанные травкой, трипи и печеньками с гашишем, и у которых по большей части был очень тоненький пенис, но всегда в напряженном состоянии, словно вертел. Дело в том, что такого рода духовные движения задумывают мужики, чтобы как можно больше трахаться, прежде чем у них выпадут зубы и волосы. Речь идет, как правило, о монотеистических религиях: культ волосатого лобка. Но в конце концов хиппи повезло, потому что некоторые дурочки попались в эту ловушку и отправились в деревенские дома этих ловкачей, которые однажды проснулись, потрогали немножко свои сладкие флейты в знак почтения к Вселенной, поприветствовали улыбкой Брата-Солнце и, выпив кружку козьего молока, сформулировали Великий Вопрос: «О, Брат-Солнце, что бы нам изобрести, чтобы немножко потрахаться с девчонками-сестричками, с надменными девчонками в стальных трусиках?» И Брат-Солнце посоветовал им магическую формулу, которую вы уже знаете: немного Кришны, немного травки, макроконцерты на открытом воздухе, сандаловые палочки, азиатская бижутерия, плиссированные шелковые платки, убийство давящего подсознания и так далее. И эти ребята трахались, сколько могли, пока могли, а это, по сути, немного: доказательство находим в песнях того периода. Действительно, почти все песни того периода жалуются на плохих девчонок, которые уходят с другим, на надувных кукол, которые плохо вели себя с ними на темных пустырях, на ящериц-рокерш, которые не смотрят на них с любовью и которые всегда бродят сами по себе, полупьяные или совершенно пьяные, и ложатся в постель с охотниками, похожими на викингов. Но, в конце концов, такими они были, пророки стихийного пениса, поющие куплеты против ядерной бомбы в надежде, что таким образом им удастся вздуть хоть одну филантропку в черепаховых очках и с костлявыми подмышками…