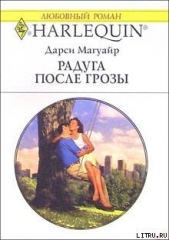Радуга тяготения

Радуга тяготения читать книгу онлайн
Томас Пинчон - одна из самых загадочных фигур в мировой литературе. А. Зверев писал о нем: «Он непредсказуем. Оттого и способен удерживать интерес публики годами, десятилетиями - даже не печатая решительно ничего».
«Радуга тяготения» - роман с весьма скандальной судьбой. В 1974 году ему было решили присудить Пулитцеровскую премию, однако в последний момент передумали. От медали Национального института искусств и литературы и Американской академии искусств и литературы он отказался, никак не объяснив свой поступок. Потом роман все же был удостоен Национальной книжной премии. Но и здесь не обошлось без курьеза - Пинчон на вручение этой престижной награды не пришел, прислав вместо себя актера-комика.
Наконец у российского читателя появилась возможность прочитать перевод этого романа, который по праву считается одним из лучших образцов постмодернизма.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А он — пассивный, как сам транс, дозволяет ее красоте: проникать в него или избегать его, чего бы она ни пожелала. Как быть ему чем-то иным помимо кроткого приемника, наполнителя молчаний? Все радиусы комнаты — ее: водянисто-целлофановые, потрескивающе-тангенциальные, когда она разворачивается на оси каблука, копьем бросаясь по собственным следам. Ужель и впрямь он любит ее почти десятилетие? Невероятно. Эту ценительницу «великолепных слабостей», коей движет никакая не похоть, даже не вожделенье, но — вакуум: отсутствие людской надежды. От нее мурашки по спине. Кто-то назвал ее эротической нигилисткой… каждый из них, Вишнекокс, Флёр де ла Нюи, даже, подозревает он, юный Трелист, даже — как он слыхал — Маргарет Четвертой, каждый используетсяво имя идеологии Нуля… дабы великий отказ Норы внушал еще больше священного трепета. Ибо… если она и впрямь его любит: если все ее слова, это десятилетие комнат и разговоров что-то значили… если она его любит и все равно откажет ему, презрит расклад пари 5 к 2 и откажет ему в даре, откажет в том, что разбросано в каждой его клетке… то…
Если она его любит. Он чересчур пассивен, ему не хватает отвага сунуться внутрь, как попытался Вишнекокс… Вишнекокс, разумеется, урод. Слишком часто смеется. Но и не бесцельно — надтем, что, как он полагает, все остальные тоже видят. Все смотрим какую-то кривую кинохронику, луч проектора падает молочно-бело, густеет от дыма вересковых трубок и дешевых сигар, «Абдулл» и «Жимолостей»… края облаков — освещенные профили военнослужащих и молоденьких дамочек: мужественный креп пилотки ножом вспарывает затемненный кинотеатр, сияющая округлость шелковой ноги пальчиками внутрь лениво брошена между сиденьями в переднем ряду, а ниже — резкие тени бархатных тюрбанов и под ними — перистых ресниц. Среди тусклых и похотливых парочек этих ночей смеется Роналд Вишнекокс и влачит свое одиночество — хрупкий, очень неуравновешенный, сочится жвачкой из щелей, в странном макинтоше из весьма нестойкого пластика… Из всех ее великолепных слабаков именно он предпринимает самые опасные вояжи в ее пустоту — в поисках сердца, чье биенье задавать будет он.Должно быть, ей это поразительно — такой-бессердечной-Норе: Вишнекокс на коленях, колышет ее шелка, древняя история меж его руками вихрится водоворотами — протекают шарфы цвета лайма, морской волны, лаванды, шпильки, броши, переливчато-опаловые скорпионы (знак ее рождения) в золотых оправах трискелионом, пряжки на туфлях, сломанные перламутровые веера и театральные программки, петли подвязок, темные, вялые чулки из доаскезных времен… на своих непривычных коленях, руки плывут, поворачиваются, выискивают ее прошлое в молекулярных следах, столь ненадежных в потоке предметов, руками на ощупь, она счастлива отказать, прикрывает его попадания (почти, а то и в самое яблочко) умело, словно это салонная комедь…
Опасную игру затеял Вишнекокс. Частенько полагает он, что сам объем информации, втекающий меж его пальцев, насытит его, выжжет дотла… она, похоже, исполнена решимости ошеломить его своей историей и болью оной, и кромка истории этой, неизменно резкая после оселка, вспарывает его надежды — все их надежды. Нет, он ее уважает: он знает, что на самом деле здесь очень мало женской наигранности. Она и впрямьне раз обращала лицо к Внешнему Сиянию — и просто-напросто ничего не видела. И тем всякий раз впитывала в себя еще чуточку Нуля. Все сводится к отваге, в худшем случае — к самообману, какового исчезающе мало: Вишнекокс вынужден им восхищаться, хоть и не может принять ее остекленевшие пустоши, ее стремленье ко дню отнюдь не гнева, но — предельного безразличия… Про себя он знает ровно столько, сколько правды она способна принять. Он же принимает излучения, впечатления… крик в камне… экскрементные поцелуи, что тянутся незримыми стежками поперек ярма старой сорочки… изменщик, стукач, чья вина однажды заболит раком горла, звоня колоколами дневного света сквозь стрелки и клинышки драной итальянской перчатки… Ангел Убивца Сен-Власа, на мили превыше своего имени, воспарил над Любеком в то Вербное воскресенье, а под стопами его — ядовито-зеленые купола, навязчивый поперечный поток красной черепицы устремлялся вверх-вниз по тысячам островерхих крыш, бомбардировщики же заходили на виражи и ныряли, Балтика уже затерялась позади в саване зажигательного дыма — и вот он, Ангел: кристаллики льда со свистом сносит с черных кромок опасно глубоких крыльев, что распахиваются, переносясь в новую белую бездну… На полминуты раскололось радиомолчание. Переговоры таковы:
Сен-Влас: Парад Уродов Два, ты то видел,прием.
Ведомый: Парад Уродов Два — подтверждаю.
Сен-Влас: Хорошо.
Видимо, никто больше не переговаривался по радио на задании. После налета Сен-Влас проверил всю технику вернувшихся на базу и никаких неполадок не обнаружил: все детекторные кристаллы на частоте, в источниках питания никаких колебаний напряжения, как и полагается, — но кое-кто припоминал, как на те несколько мгновений, что длилось явление, из наушников пропала даже статика. Некоторые слышали высокое пение — словно ветер в мачтах, в вантах, в кроватных пружинах или тарелках параболических антенн флотов, зимующих в доках… но лишь Убивец и его ведомый видели его, пока гудели себе мимо яростных лиг этого лица, мимо глаз, высившихся на много миль и следивших за их пролетом, и радужки, красные, как угли, через желтый яснели к белому, пока Убивец с ведомым скидывали бомбы безо всякой конкретной схемы, капризный прицел Нордена, в воздухе вокруг его вращающегося окуляра сплошь капли пота, ошарашен их необъявленной потребностью набрать высоту, отказаться от удара по земле ради удара по небесам…
Полковник авиации Сен-Влас при разборе полетов не стал упоминать этого ангела: дама из ЖВС [73], которая его опрашивала, всей базе была известна как дракониха-буквалистка наихудшего пошиба (она подала рапорт психиатрам на Продуитта за его радужную валькирию над Пенемюнде и на Жутэма за ярко-синих гремлинов, что пауками разбегались с крыльев его «тайфуна» и мягко планировали в леса Гааги на парашютиках того же цвета). Но черт возьми — это было не облако. Неофициально за две недели с любекского «огненного шторма» до приказа Гитлера начать «вселяющие ужас акты возмездия» — имелось в виду оружие V — слухи об Ангеле расползлись. Хотя полковнику авиации этого вроде бы и не хотелось, Роналду Вишнекоксу разрешили повыспрашивать у него кое-что про тот полет. Так и открылось про Ангела.
Затем Кэрролл Эвентир попробовал достучаться до ведомого Сен-Власа — Теренса Ханадетки. На хвосте целый небосвод «мессеров», деваться некуда. Входные данные морочат голову. Петер Сакса намекнул, что вообще-то здесь может иметь место множество проявлений Ангела. У Хана-детки оно не такое доступное, как у некоторых других. Незадачи с уровнями, с Правосудием — в смысле таро… Это от той бури, что нынче разметывает всех по обе стороны Смерти. Приятного мало. На своей стороне Эвентир считает, что он скорее жертва, даже несколько обижается. Петер Сакса на своей поразительным образом выпадает из роли и впадает в ностальгию по жизни, по старому миру, по Веймарскому декадансу, который его кормил и двигал. В 1930-м насильно перекинутый на другую сторону ударом шуцманской дубинки в уличных беспорядках в Нойкёльне, теперь он сентиментально припоминает вечера натертого темного дерева, сигарного дыма, дам в граненом нефрите, панбархате, масле дамасских роз, на стенах — новейшие угловатые пастели, во многочисленных ящичках столов — новейшие наркотики. Больше, нежели просто «Kreis» [74]— обыкновенно вечерами расцветали целые мандалы: все круги общества, все кварталы столицы, ладонями вниз на эту знаменитую кровавую полировку, касаясь лишь мизинцами. Стол Саксы был что глубокий пруд в лесу. Под гладью что-то ворочалось, ускользало, начинало всплывать… Вальтеру Ашу («Тельцу») однажды вечером явилось нечто столь необычное, что вернули его лишь три иеропона (250 мг), но даже после них он ложиться спать как бы не очень стремился. Все они стояли и на него смотрели — драными рядами, похожими на построение атлетов: Вимпе, человек «ИГ», которому выпало держать иеропон, зацикливал Заргнера — гражданского, приданного Генеральному штабу, сбоку лейтенант Вайссман, недавно вернувшийся из Юго-Западной Африки, и адъютант-гереро, которого лейтенант привез с собой, пялился, пялился на всех, на всё… а за спинами дамы шевелились шипящим плетеньем, вспыхивали блестки и высокоальбедные чулки, черно-белый грим в изысканно гнусавой тревоге, глаза распахнуты ах…Всякое лицо, что наблюдало за Вальтером Ашем, — сцена райка; всякое — само себе номер.