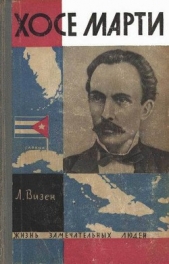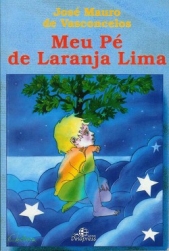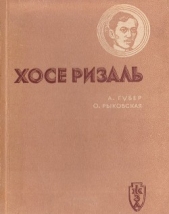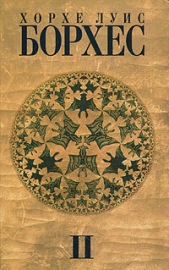Зачарованная величина

Зачарованная величина читать книгу онлайн
Хосе Лесама Лима (1910–1976) — выдающийся кубинский писатель, гордость испанского языка и несомненный классик, стихи и проза которого несут в себе фантастический синтез мировых культур.
X. Л. Лима дебютировал как поэт в 1930-е годы; в 1940-е-1950-е гг. возглавил интеллектуальный кружок поэтов-трансцеденталистов, создал лучший в испаноязычном мире журнал «Орихенес».
Его любили Хулио Кортасар и Варгас Льоса. В Европе и обеих Америках его издавали не раз. На русском языке это вторая книга избранных произведений; многое печатается впервые, включая «Гавану» — «карманный путеводитель», в котором видится малая summa всего созданного Лесамой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Между тем сближение поэзии с диалектикой развития имело последствия эпического масштаба. Невыразимый миг растягивался до осененного милостью пространства, неукротимое движение диалектически развивающейся личности по вершинам и провалам существования таило в себе обжигающую опасность: в философию бросались, не понимая ее сущностных границ. Современность, как заметил Лантсхеер {415}, ищет в философии не столько действительного объяснения вещей, сколько интеллектуального приключения, своего рода драмы духа, поэмы о личности. Все сколько-нибудь значительные поэтические устремления нашего времени — от «чистой поэзии» {416} до сюрреализма — всего лишь отчаянное усилие продлить восприятие кратчайшего временного отрезка или преобразить состояние чувствования (удерживающее человека, по Шиллеру, в рамках времени) в достоверность восприятия. Искомая качественная диалектика Кьеркегора может обнаружиться вовсе не в познании восприятия и чувствования — это лишь один из видов познания, его, по Клоделю, готическая, средневековая форма. В совершенно ином, возрожденческом смысле Клодель говорил о жизненности поэтического познания. Жить и означало для него познавать. С Клоделем, замечает Дюамель, слову «познание» возвращается его первичный и давным-давно утраченный смысл «зарождения». Для Клоделя всякое познание есть рождение, кровоточащее Рождество. Он мог бы воскликнуть с мастеровым средневекового цеха: «Пусть я стану единой нотой в общем хоре. Пусть я буду стерт собственным жестом — легким нажатием на рукоятку». Как рабочий он стремится к неразличимости ангела, а как поэт может осуществиться лишь на путях святого от лирики к драме — в богопознании. Здесь он расходится с учением средневековых теологов о сопричастности, не стремясь преодолеть невозможность проникнуть в божественную «чтойность», но опираясь на одну только ненасытность познания. Его поэтическое — читай, жизненное — познание противостоит и élan vital [85] Бергсона, который не в силах достигнуть высокого покоя в молитве, но врывается в сферу высших сущностей как настоящий конкистадор. Когда Клодель говорит: «Пусть мой стих стряхнет с себя все рабье, как морской орел, кинувшийся за гигантской рыбой», — он видит перед собой нагого человека — это существо, исполненное гордыни и устремленное к познанию Бога, это «животное посреди пустынной земли, брошенного коня, взметающего к солнцу вопль человека». Ему видится великий бой, высшее достоинство католика: лицом к лицу с чудовищной рыбой — самим Господом.
Чудотворное действие пейотля {418} с беззвучной непрерывностью, насколько загадочным индейцам тараумара хватало сил ее выносить, в конце концов превращало несуществующие дворцы в нечто осязаемое и привычное. Так возникли культуры без опор, заледеневшие испарения, следующие неведомым законам кристаллизации, молнии, способные длить многоцветные паузы, как бы превратившись в металлы. Человек таких культур жил среди реалий, которые распадались и рассеивались, преодолевая границы тел. Движимый пейотлем, человек создавал культуры чистого вымысла без каких бы то ни было вещественных подтверждений, загадочные цитадели, диковинные храмы, где вера превращалась в материю, а материя в гиппогрифов, в певучих горгон, которых не было во внешнем мире. Питаясь дьявольским пейотлем, человек не набрасывался на природу, не лепил из земли и воздуха несокрушимые изваяния собственной гордыни, диамантовые памятники своего превосходства, анемоны, послушные всем разновидностям ветра, а следовал за несуществующей, но нескончаемой нитью, так что все внешнее, реальное превращалось в ирреальное и внутреннее, воздействовавшее на его движения, жесты, образы, устраняя природу и замещая ее промежуточными производными. В этом созданном пейотлем мире действие было равносильно исчезновению, протянувший руку сталкивал собеседника в беззвучную пропасть, а чужое слово приводило в отчаяние, как зеркало, сначала пронизывая, а затем распыляясь росой на медлительном пепле.
Кто-то находит прибежище в миру, опираясь на толстокожую традицию английского эмпиризма и взимая непременные проценты за раздувшийся зоб самозванца Гауматы {419}. Хаксли {420}, назовем это имя в открытую, предпочел проверить на деле обещания пейотля. В узоре ковра, покрывающего императорский престол, он выделяет параллельные голубые ленты на кремовом фоне. Под воздействием таинственного кактуса голубизна умножает оттенки наподобие многоцветных молний фазаньего хвоста; теперь это уже фанатически многоцветная голубизна, упорствующая в переливах, как бы восходя на горделивый пьедестал. Но скоро обостренная тонкость этого видения достигает crescendo, и картина начинает преображаться. Пифагорейский гилозоизм {421} изгибает голубые ленты, и воспринимающее «я», которое держится и живет этим распаленным совершенством, наблюдает за собственным превращением в целостность предстоящей ему голубизны. Теперь «я» — это голубая лента, тонущая в наслаждении. Заледеневший рой совершенств машет крыльями, зовет к себе, манит, и «я», подобное маске, застывшей в своем превосходстве, преображается в пронзительную голубизну, упиваясь полной властью и заслонившись несокрушимым презрением.
Кокто искал в ядовитых соках опору, точку равновесия, которая бы сдерживала излишества левитации, если вообще не освобождала от них душу и тело, оставляя тело лопнувшим кулем, а душу — стенанием загробных теней. А для Арто главное — страсть к конкретному, его геометричные постройки с их ничем не подтвержденными пределами, его пустяки, рассеивающиеся на самом краю реальности. Пейотль породил целую цивилизацию — создал, не существуя, воздвиг, не удостоверяя. Рвы этих замков заканчивались морщинами на лбу. Растительный мир мстил человеку. В центре Арто утвердил дерево, простирающееся листьями в испарения мозга. И повис на этом несуществующем, воспетом им дереве, и его ноги колотили в пустоте по песку, которого не чувствовали пальцы, но который, как мелкий дождь, порывами перебегал по лбу.
Одержимый всегда одержим собой. Стоит прекратиться вражде, ее безответному диалогу, и дьявол побеждает: на его стороне ложная убедительность деталей, искусственная ясность. Арто остался навсегда зачарован детальностью чудесных трофеев пейотля. Он пребывал в сумрачном царстве параллельного мира, удерживая аналитическую ясность на любой глубине безумия. Его страсть к конкретике, которой удавалось вбирать испарения кактуса с естественностью собственного дыхания, сохранялась и в даре анализа, и разгоряченный ум проникал в мир апорий {422} не с помощью диалектики, а посредством неописуемого осуществления, сохранявшего следы мысли, которая подчиняла невозможное.
Душа упорядочивает мир, как бы говорит нам Арто, но есть такой миг, когда она способна сокрушить все. Душа, которая упорядочивает, а потом крушит и рушит любой порядок, — это одна и та же душа. Пользуясь тончайшим инструментарием воли, душа упорядочивает мир, но вслед за этим, как бы в момент отлива, крушит то, что упорядочила, пользуясь не менее утонченными инструментами опустошения. Она словно пассажир в сказочном поезде: он наделен дьявольским знанием о нас, и как только душа принимается упорядочивать мир, на ходу спрыгивает с поезда, выпускает в нас убийственную стрелу и еще успевает скрыться в хвостовом вагоне.