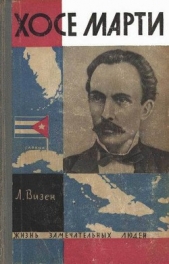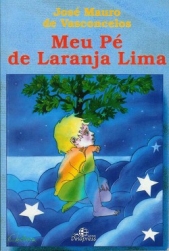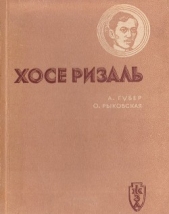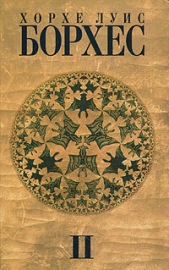Зачарованная величина

Зачарованная величина читать книгу онлайн
Хосе Лесама Лима (1910–1976) — выдающийся кубинский писатель, гордость испанского языка и несомненный классик, стихи и проза которого несут в себе фантастический синтез мировых культур.
X. Л. Лима дебютировал как поэт в 1930-е годы; в 1940-е-1950-е гг. возглавил интеллектуальный кружок поэтов-трансцеденталистов, создал лучший в испаноязычном мире журнал «Орихенес».
Его любили Хулио Кортасар и Варгас Льоса. В Европе и обеих Америках его издавали не раз. На русском языке это вторая книга избранных произведений; многое печатается впервые, включая «Гавану» — «карманный путеводитель», в котором видится малая summa всего созданного Лесамой.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Зачарованность тайной и энергией высадки ведет Рембо к внезапной смене галсов, которыми отмечена его поэзия. Когда он восклицает: «Пальмы!», кажется, его пьяный корабль {391} скребет днищем по пескам Индийского океана или Архипелага Королевы {392}. Когда восклицает: «Алмазы!», мы словно чувствуем, что, завалясь на другой борт, он достиг кристаллизованной влаги в самом сердце плутонических отложений. Его дерзкие выходки, его головокружительные начала, далекие от какой бы то ни было убаюкивающей причинности, сегодня предстают первыми верными путями поэзии, а земли, которые он открыл, обжиты крепкими колонистами. Указатель у перекрестков нового зрения на невиданных островах? «Подкрепляясь вином из пещер» {393}, поскольку Рембо доверяет скорее поэтическому времени открытия, как наливается предстоящим торжеством виноградная гроздь, чем эпохе письма, повторяющего лицо в зеркале. Место? «Владения феерических аристократий {394} — зарейнских, японских, гуаранийских». Какой восторг — идти по следу этого слова «гуаранийский» {395}, пока оно не развернет в воображении Рембо всю картографию рая. Формула? {396} «Духу нищих {397}. И высочайшему клиру». Тем самым, Рембо в его подытоживающих фрагментах — не просто побуждающая сила метафоры и путь в область беспрестанного рождения водопадов и первозданных домов, пробуждающихся к жизни в этих новых землях поэзии, путь к обретению подземных глубин. Он — тайный сын чародея, украдкой произносящий магические слоги таких баснословий, которые сильнее отцовских, и таких заклинаний, чьи краткие и счастливые прикосновения изгонят болезнь и приведут к скорейшему излечению вождя племени почтенным старцем-кудесником.
Символизм? Сегодня он лишь пир без сотрапезников, от которого доходит последний холодок скатертей и первый отсвет шандалов. Еще долетает звук, блик, но мы уже равнодушно уходим дальше, чтобы найти себя в другом воплощении, в иной материи, которая — мгновенное единство беглости и долготы — ветвится в ритме сна, растекающегося по мускулам змеи. Символы смешиваются с цимбалами, а змея изгибается веткой миндаля (подвижной, налившейся осенью и вот — полунедвижной). И сама музыка теперь не мерит поле в одной упряжке со словом, не извлекает заветный сок из незыблемой окружающей природы, но, опьяненная небытием, стремится — наподобие пустеющих к ночи органных труб — поглотить опивки любого стихотворения, любого отброшенного опыта.
Музыка, связующая слова в одно, снова запускает их уже не знающий конца хоровод, кружа и кружа так, что обдуманный мощный толчок заканчивается многогранником кристалла, который, вращая, удерживают кончиками пальцев. Малларме находил в этом «праздник подвижного неравенства» {399}. Ему казалось, будто подобный движущийся инструмент стесывает слова, обращая их в нечто плывущее, что-то вроде туманного меандра. В этой прижившейся раковине буквы вытягиваются в тельце, нить и сам лабиринт, где вновь обретается неутраченное, так что слова отданы во власть своего равного себе неравенства и превращены в собственный царский кортеж заветную позу фавна или цельность стеклянной рыбы внутри влаги, которая и сама — кристалл.
Силу стиху Малларме возвращал с помощью того, что называл «обращенным отблеском» {400} (смотри его «Crise du vers» [78] {401}). Этот как бы последний отсвет слова на соседнем рушит избитое представление об уединенном, отдельном, отличном от других слове, кружащем в собственной пене и собственном ритме. Как только равные в неподвижности слова начинают питаться исключительно собственными отсветами, на них накатывает пресыщение. Таков случай Валери. Его, питающиеся прежде всего звуком, «взаимные отблески» равного себе и поровну распределенного между всеми сияния завершаются изваянием (а точнее — аллегорией) абсолютно неизменной и абсолютно необоримой судьбы.
Это взаимный отсвет должен быть погашен обращенным бликом, а взаимность слова — раствориться в непоколебимой слитности самого двигательного толчка. В обращении слова его собственное развитие как бы стирает всякий отдельный и не отделимый от него мир, однако оставляя по себе трагическое знание небытия, существования несуществующего. Я говорю «германский лес», или «букет огня на морской глади», или попросту «кортеж» — и обращенный отсвет тут же ткет некое особое, но ширящееся и разбегающееся пространство. Слово рождается так, будто исходит от немого — неспособного и беспомощного. Но кто же еще так чувствует слово, как немой или открывший рот после только что отгремевшего хорала?
Малларме добивался того, что называл «заменой малейшей ощутимости дыхания» {402}. Он хотел упразднить всякую авторскую указку, чтобы нечто жило само собой, и никакие внешние, грубые признаки жизни стихотворения не щербили его точеное тело ненужной выбоиной. Порой это, пожалуй, утомляло вывернутой наизнанку очевидностью намека или отсылкой к предметам заранее объявленной ценности. Отказавшись от всех внешних признаков живого, стихотворение существовало собственной длительностью, впрочем, немедленно обрывавшейся при первой помехе: в конце концов оно пульсировало, сгущаясь и распадаясь наподобие совокупности бесчисленных и неразличимых атомов, и оставляло по себе лишь исчезающий пенный след, мельчайшую рябь едва всколыхнувшегося моря. То, что пришло потом, на смену, он не раз называл, переименовывал и безо всякой жалости предчувствовал. Ото всего последующего его легчайшей чертой отделяют два излюбленных слова: «зеркало» и «полуоткрытый». Его зеркала
совсем иные, чем у Валери с его eau froidement présente [80] {404}, стылой гладью, замыкающей взгляд и отсвечивающей змеиным металлом. Слово «entr’ouvert» [81] Малларме обычно относит к кружеву, Валери — к гранату {405}. В игре воздуха и кружев богохульство переплетается с последней, поглощающей его чистотой, а когда приоткрываешь фанат, воздух касается зерен со священной невесомостью. Поэтому поэзия, начало которой, с присущим ему чувством дали, положил Малларме, напоминает об удовольствиях первых монархий, когда туники с самой долговечной утонченностью скалывали рыбьей косточкой.