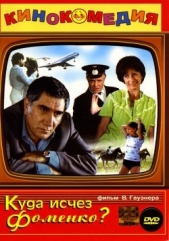Старая проза (1969-1991 гг.)

Старая проза (1969-1991 гг.) читать книгу онлайн
Феликс Ветров
Дорогие друзья!
Буду рад, если благодаря порталу Proza.ru мои вещи найдут своего читателя на страницах Интернета. Также буду сердечно рад получить читательские отзывы на них. Пишите, пожалуйста.
Несколько слов о себе: родился в Москве в 1947 году. По первой специальности — художник-график. Много работал как иллюстратор в разных изданиях: оформлял журналы, книги. После Московского художественного училища «Памяти 1905 года» окончил Литературный институт имени Горького, отделение прозы. Работал в такси, на нескольких заводах, в разных учреждениях и редакциях. Чем только не приходилось заниматься, чтоб добыть копейку: рисовал, писал радужные лозунги социализма, расписывал стены, фотографировал, много преподавал, пересчитывал говяжьи туши и консервные банки, сторожил гардеробный трест, выпускал как литредактор компьютерный журнал… Впервые опубликовал свою прозу в журнале «Смена» в 1970 году. Затем в журналах «Юность», «Литературная учеба» и других изданиях увидели свет несколько повестей и рассказы. Почему-то довольно много шуму наделала в свое время небольшая повесть «Сигма-Эф» в «Юности» (№ 1/1974), затем она неоднократно переиздавалась в родном Отечестве, в ГДР на немецком и даже в КНР на китайском — как яркий пример ревизионизма и «хрущевизма без Хрущева». Первая книга «Картошка в натюрморте» вышла в издательстве «Молодая гвардия» в 1982 году. Как в штате, так и внештатно много работал как редактор, литературный и художественный критик. Свыше 15 лет внештатно (в штат на ТВ не брали) писал телевизионные сценарии больших игровых передач на темы культуры и зарубежной литературы, по истории русской науки, а также известной детской образовательной передачи «АБВГДейка». Все они множество раз были в эфире в период 1979–1996 гг. С 1990 года выступал как автор статей, эссе и литературных рецензий в ряде крупных христианских изданий и светских газет («Независимая газета», «Накануне», «Русская мысль», «Россия» и др.). Автор сценария 5-серийного телевизионного фильма (1994) «От Рождества до Пасхи», который также многократно шел в эфире.
В настоящее время опубликовано семь книг: проза, публицистика, эссе и размышления христианина.
Произведения переведены на 10 языков и опубликованы в Венгрии, Германии, Греции, США и др.
Член Союза писателей Москвы.
С 1998 года живу в Германии, в Нижней Саксонии.
ICQ: 238170414
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Был жук. И этот жук знал, куда ему надо. И только чья-нибудь кожимитовая подошва или… галоша могли б остановить его, растерев на земле. В голову внезапно пришло сравнение: «Я вроде этого жука. Бегу и бегу на свой огонек».
Но от этого нежданно явившегося сравнения несло такой липой, такой дешевкой, что Сапроненко только замотал головой и, не удержавшись, громко засмеялся над собой.
Старушки словно того и ждали, тотчас возмущенно зашикали из своих рядов. Откуда-то прилетело и упало на Сапроненко слово «пьяный».
Он оборвал смех и все ещё с улыбкой уставился на экран, по которому прохаживался, очевидно, тоже очень умный ворон и стукал клювом то в квадраты, то в круги. За каждую отгадку он получал кусок мяса и, заглатывая, приплясывал, хлопая крыльями.
Нет, жук был другой… он рвался к свету просто так, без подачек и премиальных.
Сапроненко надвинул шапку на глаза и стал пробираться к выходу. Из грязного, забитого пустыми ящиками двора снова вышел на Арбат.
День кончался. Мокрое белесое небо, с утра сыпавшее на город то снег, то капли нечастого дождя, не посинело по-вечернему, а побурело, стало тяжелым и плотным, бронзовым.
Темные громады домов запестрели квадратами окон. Фонари еще не зажглись, и Сапроненко шагал сквозь ветер уже не в той толпе, что днем. Почти все вдруг оказались одетыми в черное, погасли цвета, но на лицах он видел одно выражение — скорей бы проскочить обжигающий щеки ветер.
Наморщив точеные носики, зажимая уши под разлетевшимися длинными волосами, мимо него пробежали две девчушки лет по шестнадцать, модные, дурочки, хорошенькие… привычно обсмотрели его, прыснули, и он успел, расходясь с ними в вечерней толпе, расслышать слово «мумия!..».
Он дошел до знаменитого старого ресторана, постоял под «модерновым козырьком», неизвестпо для чего приделанным к камню иных времен, иной огранки, потом взялся за резную дубовую спираль на двери.
В маленькой прихожей сидел седовласый «адмирал»-швейцар и, вытаращив глаза, смотрел на приостановившегося Сапроненко так, будто отродясь ничего подобного не видел. Желтые канты на черной тужурке и фуражке мерцали веселым трауром.
Сапроненко шагнул вперед, в теплый ветер, отделявший этот мраморно-зеркальный уют от ветра улицы, и швейцар сразу беззвучно поднялся из своего кресла и, выпятив осанистую грудь, пошел на него.
— Ошибся, ошибся, дорогой, — негромко басистой скороговоркой заурчал он, шевеля белыми бровями. — Вот, пожалста — кафе рядом, закусочная…
— Ресторан — здесь? — спросил Сапроненко.
— Рестора-ан?! — выпучил глаза старик. — Сказано: мест нет! — прикрикнул весело и, обернувшись, ткнув через плечо на Сапроненко большим пальцем, хохотнул гардеробщикам:
— В ресторан собрался!
Гардеробщики в такой же форме, как и швейцар, развеселились.
— Почему? — хмуро сказал Сапроненко, чувствуя, что не говорить тут иадо, а… сунуть сколько-нибудь этому пухлому, в соку, в силе старику… Рублевку разве?..
— Иди, тебе говорят! Иди по-хорошему! — швейцар вытащил из кармана серебряный свисток.
— Да вы что? — Сапроненко стоял, озираясь.
И тут он увидел себя в зеркале: муха серая на торте, среди бело-розовых кремовых финтифлюшек.
В вестибюль высыпали итальянцы, за ними обвешанные фотоаппаратами американцы.
О Сапроненко вмиг забыли, он скинул куртку и шапку, остался в своем потертом пиджачке, из-под которого виднелись черная рубашка и шерстяная безрукавка Сафарова. Куртку надо было сдать, он сел в кресло и стал ждать, глядя, как вытанцовывали гардеробщики, как отрабатывали свое право на эту вкусную жизнь, как носились с номерками, бежали, виляя задами, подавали пальто, ловили монеты, почтительно-благодарственно кивали и снова рысили, похабно выгнув спины.
Наконец, когда все оделись и пошли к выходу, Сапроненко подал гардеробщику свое барахло.
— А-адну минутч-чку! — гардеробщик, ухмыляясь, ринулся к нему, схватил куртку, шапку, улетел, примчался, выбежал в вестибюль и, кривляясь, хотел пройтись по плечам Сапроненко платяной щеткой.
— Что, скучно, отец? — негромко спросил Сапроненко и пошел наверх по красному ковру лестницы.
За три года в Москве он первый раз пришел в ресторан, в большой роскошный ресторан: сегодня был его праздник, и он мог это себе разрешить.
Ему плевать было, что думали о нем все эти, уплетавшие цыплят за столиками, но все равно нелегко оказалось пройти мимо белых скатертей, мимо красных сощуренных личностей, пьяно-счастливых женских глаз, когда весь ты, Сашка Сапроненко, сутулый, черноволосый, смотрящий из-под сведенных бровей, шел, отражаясь сразу в сотне зеркал, под взглядами, как под огнем.
— Не занято? — спросил нараспев на свой южный лад, спортивно-небрежного блондинистого мужичка лет сорока, лениво пощипывающего кончик сложенной конусом салфетки.
Тот глянул сверху вниз и снизу вверх, и, не удостоив ответом, чуть шевельнул плечом, как бы говоря: «Мне-то что?»
Сапроненко отодвинул стул и сел.
Потом потянул к себе карточку меню, пробежал главами по строчкам, внутренне шарахаясь от того, сколько здесь все стоило: на один белужий бок они тянули с Володькой всю прошлую неделю — и усмехнулся: «Забыл!»
Забыл, что в кармане целых четыреста… то есть, нет, три… целые три сотни, первые его деньги. Первые деньги, заработанные… малеваньем! Хм, деньги… как-то не укладывалось, что это деньги, было одно ощущение тяжести и несвободы, словно и не его они были, а взятые в долг — первые монеты, заработанные не за баранкой на уборочной, не на «левой» ездке, а тем трудом, из-за которого он… ну нет, не как Гоген, конечно, но все же отбросил всё, что имел раньше, оставил жену и дочку в родном городе и жил теперь в Москве на сорок целковых «стипухи». Набегали, правда, и другие деньжата — были ЖЭКи с их красными уголками и стендами, поликлиники, которым срочно требовалось разукрасить к смотру санбюллетени, кинотеатры, вдруг оставшиеся временно без афиш по причине запоя штатных мазил, автобазы… И он мотался — всегда вечерами, потому что утром были занятия, — из конца в конец города, кропал стенгазетки, выстукивал по трафаретам объявления и «кодексы строителя коммунизма», чтоб хватило им на щи, сосиску с гречкой и компот у Зины в училищной столовке, чтоб можно было взять на Пушкинской стронцианки и парочку кадмиев желтых средних по рупь семьдесят за тюбик, ваять холст и грунтовку, раздавить «банку» с Сафаровым и чтоб хватило послать Гальке с Ленкой тридцатку — не деньги, понятно, и не каждый месяц, но все же.
Подошла равнодушная официантка, и он, сбиваясь и путаясь под внимательным взглядом блондина, заказал что-то неведомое, по-видимому, мясное, с мудреным названием, из чешской кухни: салат, рыбу-ассорти, дагестанского триста…
— Ну и… всего, что полагается… вы уж лучше меня знаете…
— Вам? — сказала официантка, повернувшись к блондину, держа блокнотик на веревочке.
И тот — четко, ясно и, как показалось Сапроненко, понимающе переглянувшись с официанткой на его счет, — заказал то-то и то-то… «И еще, будьте любезны, чесночный соус, а водочку, будьте добры, похолоднее, а кнедлик не пересушен? Чудесно!»
О! Он был знаток этих загадочных блюд, он был свой человек и мире, как в этом ресторане.
А Сапроненко пришел сюда, чтоб отпраздновать свой первый успех. И он скалился, глядя, как расставляли свои зеленоглазые ящики усилителей музыканты, как прилаживали с гудом провода к гитарам, как плавали по эстраде в длинных темно-красных пиджаках, с балаганной — на продажу — непринужденностью и свободой жестов, в мишуре галунов, бантов и в обтяжечку талий, а в голове его все бежали цифры: «Два семьдесят восемь… так, рыба, значит, четыре, нет, уже пять рублей в уме».
Он был смешон, противен сам себе, но три последних года, что он жил вдали от семьи, от всей прежней жизни, поднимались против его желания скинуть хоть на один день тяжесть безденежья.
— Радоваться так радоваться! — говорил себе Сапроненко и — не радовался.