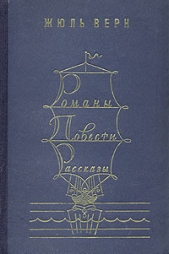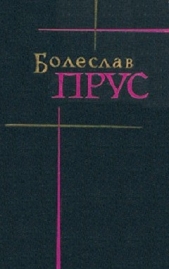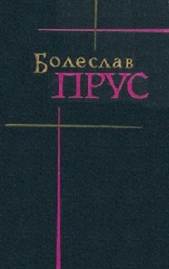Семейные беседы: романы, повести, рассказы

Семейные беседы: романы, повести, рассказы читать книгу онлайн
Романы, повести и рассказы Наталии Гинзбург отличаются богатством образной палитры и тонким психологизмом. Произведения писательницы - это раздумья об эпохе, о смысле жизни, о судьбе женщины. В них убедительно показана губительная роль, которую сыграл фашизм в судьбах простых итальянцев. В сборник включен этапный в творчестве автора роман "Семейные беседы", а также повести и рассказы разных лет.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Оказавшись в Риме, я облегченно вздохнула, веря, что все невзгоды позади. Особых причин для такой уверенности не было, но я верила. Мы сняли квартирку в районе площади Болоньи. Леоне выпускал подпольную газету и дома почти не бывал. Через три недели после нашего приезда Леоне арестовали, и больше я его не видела уже никогда.
Я очутилась у матери во Флоренции. В тяжелые времена она всегда начинала мерзнуть и кутаться в шаль. О смерти Леоне мы почти не говорили. Мать очень его любила, но говорить о мертвых избегала, ее постоянной заботой было мыть, причесывать детей и следить, чтобы они не замерзли.
- Помнишь Суху Ногу? А Вилли? - спрашивала она. - Что с ними сталось?
Суха Нога, как я узнала позже, умерла от воспаления легких в каком-то крестьянском доме. Амодай, Бернард и Вилли бежали в Л'Акуилу. Остальных ссыльных поймали, надели на них наручники и увезли на грузовиках по пыльной дороге.
К концу войны мать и отец сильно постарели. Страх и страдания состарили мать как-то внезапно, в один день. Она все время мерзла и куталась в лиловую шаль из ангорской шерсти, купленную у Паризини. От страха и страданий она осунулась, побледнела, щеки впали, под глазами появились большие темные круги. Бремя страданий придавило ее к земле: куда только девалась ее стремительная походка!
Родители вернулись в Турин, в дом на виа Палламальо, переименованную в виа Моргари. Фабрика красок на площади сгорела при бомбежке, как и городские бани. А вот церковь почти не пострадала - высилась, как прежде, только к ней подставили железные подпорки.
- Ну надо же! - говорила мать. - Уж эта-то могла бы и рухнуть! Такое чудовище! Нет - стоит себе!
Дом отремонтировали, привели в порядок. Окна с вылетевшими стеклами забили фанерой, а отец распорядился поставить в комнатах печки, потому что калориферы не работали. Мать сразу же пригласила Терсиллу, и, когда Терсилла снова появилась в нашей гладильной, села за швейную машинку, мать облегченно вздохнула: наконец-то жизнь входит в свое русло. Обивка на креслах потерлась и заплесневела, и мать заменила ее на новую, цветастую. В столовой над диваном снова красовалось лицо тети Регины, с двойным подбородком; круглые светлые глаза снова глядели на нас с портрета, а руки в перчатках сжимали все тот же веер.
- Маленьким по яблочку, а большим по заднице! - говорила мать в конце обеда.
Потом она, правда, забыла эту поговорку, потому что яблок стало хватать на всех.
- Что за безвкусные яблоки! - возмущался отец.
- Ну что ты, Беппино, ведь это же карпандю!
Отец написал Шевремону, что хочет подарить университету свою оставшуюся в Льеже библиотеку в знак благодарности за то, что его приютили в разгул расовой кампании.
С Шевремоном он постоянно переписывался. Тот посылал отцу все свои статьи.
В памяти моей матери города и люди, с которыми она там познакомилась, всегда завязывались в единый узел. Так, во всей Бельгии для нее существовал один Шевремон. Случись в Бельгии что-нибудь вроде наводнения или смены правительства, мать непременно вздохнет:
- Что-то там с Шевремоном?!
Во Франции, до того еще, как там поселился Марио, для нее существовал только некий мсье Поликар, с которым они встречались на конгрессах. Мать то и дело говорила:
- Что-то там с Поликаром?!
В Испании у них был знакомый по фамилии Ди Кастро. И, читая в газете о бурях и наводнениях, разразившихся на Пиренеях, мать сокрушалась:
- Что-то там с Ди Кастро? !
Этот самый Ди Кастро однажды, приехав в Турин, заболел чем-то непонятным. Отец устроил его в клинику и созвал огромный консилиум. Кто-то предположил, что это, скорее всего, сердечное.
У Ди Кастро была высокая температура, он бредил и никого не узнавал. Его жена, приехавшая из Мадрида, твердила:
- Это не corazon! Это cabeza! 1
1 Сердце... голова! (исп.)
Выздоровев, Ди Кастро уехал в Испанию, начался франкистский переворот, потом мировая война, и мы больше никогда о нем не слышали. Но стоило в разговоре упомянуть Испанию, мать тут же повторяла слова жены Ди Кастро :
- Это не corazon! Это cabeza!
Война унесла и мсье Поликара. О Грасси, которая жила в Германии, во Фрейбурге, мы также ничего больше не узнали. Мать часто ее вспоминала.
- Что-то сейчас поделывает Грасси? Неужто умерла? - вздыхала она иногда. - Да нет, не может быть, не может Грасси умереть!
После войны вся география для матери перепуталась. Она уже не могла, как прежде, вспоминать Грасси или мсье Поликара. Ведь некогда благодаря этим людям она способна была превратить чужие далекие страны во что-то домашнее, привычное и уютное, поэтому мир в глазах матери становился чем-то вроде предместья или улицы, по которой можно мысленно пробежаться, следуя за знакомыми и родными именами.
Но после войны мир стал огромен, неузнаваем, безграничен. Однако она принялась, как умела, его обживать. И делала это легко и радостно - такой уж у нее был характер. Ее душа не умела стареть, то есть отойти от жизни и оплакивать прошлое, которого не вернешь. Мать смотрела в прошлое без слез и не носила по нему траура. Она вообще никогда траура не носила. Когда мы еще жили в Палермо, она получила из Флоренции известие о смерти своей матери; та умерла совершенно неожиданно, в полном одиночестве. Для матери это был тяжкий удар. Она поехала во Флоренцию и там пошла в магазин купить себе черное платье. Но вместо этого купила красное и в чемодане привезла его в Палермо. Паоле она сказала:
- Мама терпеть не могла черный цвет. Она бы только обрадовалась, если бы увидела меня в таком нарядном платье !
Как Марии дальше жить?
Ногу надо ей лечить.
Происходит нагноенье,
Где взять денег на леченье?
Молодые поэты в то время писали и приносили в издательство такие стихи. Это было четверостишие из длинной поэмы о крестьянках, работающих на рисовых полях. В послевоенные годы все мнили себя поэтами или политиками и были уверены, что буквально из всего можно и нужно делать стихи, ведь мир на столько лет оглох и онемел, как будто находился под стеклянным колпаком, не пропускавшим звуков, сковывавшим движения. При фашизме литературу словно посадили на хлеб и воду: многим вообще запрещали писать, а те, кому это было дозволено, боясь всего, подвергали себя жесткой самоцензуре. Поэты надолго замкнулись в убогом и недоверчивом мире снов. И вот мир снова ожил, обрел дар речи, изголодавшиеся люди жадно бросились собирать урожай, один для всех, никто не хотел остаться в стороне; в результате язык политики часто путали с языком поэзии. А потом выяснилось, что жизнь гораздо сложнее, что она порой не менее трудна для понимания, чем сны, и радость оттого, что непроницаемый, стеклянный колпак разбит, обернулась иллюзией. У многих тогда опустились руки: поэты вновь садились на хлеб и воду, замыкались в молчании. Короткий и счастливый миг сбора урожая довольно быстро сменился годами тоски и уныния. Одни вернулись в мир снов или углубились в работу - неважно какую, какая подвернется, лишь бы как-то прожить; конечно, после такого общего апофеоза любая работа казалась серой и ничтожной, и мало-помалу все забыли об иллюзии всеобщей сопричастности. Много лет никто не занимался своим делом, ибо каждый был уверен, что может и должен делать одновременно кучу самых разных дел; лишь спустя какое-то время мы взялись за свои дела, каждый стал тянуть свою лямку и вновь приспособился к бремени своего одиночества, осознав, что только на этом пути можно как-то помочь ближнему, задавленному точно таким же одиночеством.