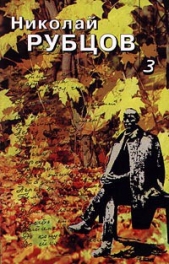Проза и эссе (основное собрание)

Проза и эссе (основное собрание) читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
С незастроеннейшей из окраин -
С новым местом, Райнер, светом, Райнер!
С доказуемости мысом крайним -
С новым оком, Райнер, слухом, Райнер!
-- где само имя поэта играет уже чисто музыкальную роль (каковую, прежде всего, и играет имя -- любое), словно услышанное в первый раз и поэтому повторяемое. Или: повторяемое, ибо произносимое в последний раз. Но избыточная восклицательность строфы находится в слишком большой зависимости от размера, чтобы принести разрешение; скорее, строфа эта требует гармонического, если не дидактического, развития. И Цветаева предпринимает еще одну попытку, меняя размер, чтобы освободиться от метрической инерции:
Все тебе помехой
Было: страсть и друг.
С новым звуком, Эхо!
С новым эхом, Звук!
Но переход с пятистопника на трехстопник и с парной рифмы на чередующуюся, да еще и с женской на мужскую в четных строках создает пусть и желаемое, но слишком уж очевидное ощущение отрывистости, жесткости. Жесткость эта и связанная с ней внешняя афористичность создают впечатление, будто автор является хозяином положения, -- что никак не соответствует действительности. Ритмический контраст этой строфы настолько резок, что она не столько выполняет намеченную для нее автором роль -- завершить стихотворение, -- сколько напоминает о его прерванной музыке. Как бы отброшенное этой строфой назад. "Новогоднее" некоторое время медлит и потом, как поток, сметающий неустойчивую плотину, или как тема, прерванная каденцией, возвращается назад во всей полноте своего звучания. И действительно, в следующих за этой строфой первых строках заключительной части стихотворения голос поэта звучит с поразительной раскрепощенностью; лиризм этих строк -- лиризм чистый, не связанный ни тематическим развитием (ибо тематически пассаж этот -- эхо предыдущих), ни даже соображениями насчет самого адресата. Это -- голос, высвобождающийся из самого стихотворения, почти отделившийся от текста:
Сколько раз на школьном табурете:
Что за горы там? Какие реки?
Хороши ландшафты без туристов?
Не ошиблась, Райнер, -- рай -- гористый,
Грозовой? Не притязаний вдовьих -
Не один ведь рай, над ним другой ведь
Рай? Террасами? Сужу по Татрам -
Рай не может не амфитеатром
Быть. (А занавес над кем-то спущен...)
Не ошиблась, Райнер, Бог -- растущий
Баобаб? Нс Золотой Людовик -
Не один ведь Бог? Над ним -- другой ведь
Бог?
Это снова голос отрочества, прозрения, "тринадцати, в Новодевичьем" -верней: памяти об оных сквозь мутнящую их призму зрелости. Ни в "Волшебном фонаре", ни в "Вечернем альбоме" эта нота не звучала, за исключением тех стихотворений, где речь шла о разлуке и где слышна -- немедленно) -- будущая Цветаева, точно "И манит страсть к разрывам" было сказано про нее. "Сколько раз на школьном табурете" -- это как бы кивок сбывшегося пророчества беспомощности трагических нот первых ее книг, где дневниковая сентиментальность и банальность уже тем оправданы, что избавили от своего присутствия ее будущее. Тем более, что эта отроческая ирония ("Что за горы там?..", "ландшафты без туристов" и т. п.) -- ирония вообще -- оборачивается и в зрелости единственно возможной формой соединения слов, когда речь идет о "том свете" как о станции назначения великого и любимого поэта: когда речь идет о конкретной смерти.
При всей своей жесткости (лучше: юношеской жестокости) ирония эта обладает далеко не юношеской логикой. "Не притязаний вдовьих -- не один ведь рай?.." -- вопрошает голос, при всей своей ломкости допускающий возможность иной точки зрения: богомольной, старушечьей, вдовьей. Выбрав слово "вдовьей", скорее всего, бес-(под-)сознательно, Цветаева тотчас осознает возможные с ним для себя ассоциации и немедленно отсекает их, переходя на тон почти сардонический "...над ним другой ведь/ Рай? Террасами? Сужу по Татрам..." И тут, где, казалось бы, уже неминуема открытая издевка, вдруг раздается это грандиозное, сводящее в одну строку все усилия Алигьери:
Рай не может не амфитеатром
Быть...
Чешские Татры, о которых в Беллевю у Цветаевой были все основания вспоминать с нежностью, дали ироническое "Террасами?", но и потребовали к себе рифмы. Это -- типичный пример организующей роли языка по отношению к опыту: роли, по сути, просветительской. Безусловно, идея рая как театра возникла в стихотворении раньше ("приоблокотясь на обод ложи"), но там она преподносилась в индивидуальном и посему трагическом ключе. Подготовленный же иронической интонацией "амфитеатр" снимает всякую эмоциональную окраску и сообщает образу гигантский, массовый (внеиндивидуальный) масштаб. Речь идет уже не о Рильке, даже не о Рае. Ибо "амфитеатр", наряду с современным, сугубо техническим значением, вызывает, прежде всего, ассоциации античные и как бы вневременные,
Опасаясь не столько чересчур сильного впечатления, которое эта строка может произвести, сколько авторской гордыни, удачами подобной этой питаемой, Цветаева сознательно сбрасывает ее в банальность ложнозначительного ("А занавес над кем-то спущен...") -- сводя "амфитеатр" к "театру". Иными словами, банальность здесь используется как одно из средств ее арсенала, обеспечивающее эхо юношеской сентиментальности ранних стихов, необходимое для продолжения речи в ключе, заданном в "Сколько раз на школьном табурете...":
Не ошиблась, Райнер, Бог -- растущий
Баобаб? Не Золотой Людовик -
Не один ведь Бог? Над ним -- другой ведь
Бог?
"Не ошиблась, Райнер?.." повторяется как припев, ибо -- так думала, -по крайней мере, ребенком, но еще и потому, что повторение фразы -- плод отчаяния. И чем очевидней наивность ("Бог -- растущий/ Баобаб?") вопроса, тем ощутимей -- как часто с детским "А почему?" -- близость истерики, закипающей в горле говорящего. В то же время речь идет не об атеизме или религиозных исканиях, но об уже упоминавшейся ранее поэтической версии вечной жизни, имеющей больше общего с космогонией, нежели со стандартной теологией. И Цветаева задает все эти вопросы Рильке вовсе не в ожидании ответа, но чтобы "изложить программу" (и чем терминология незатейливей, тем лучше). Более того, ответ ей известен -- уже хотя бы потому, что ей известна постоянная возможность -- даже неизбежность -- следующего вопроса.
Подлинным двигателем речи, повторим, является самый язык, освобожденная стихотворная масса, перемалывающая тему и почти буквально всплескивающая, когда она натыкается на рифму или на образ. Единственный вопрос, который Цветаева здесь задает со смыслом, т. е. ответ на который ей неизвестен, это следующий за "Над ним -- другой ведь/ Бог?":
Как пишется на новом месте?
Собственно, это не столько вопрос, сколько указание, как в нотной грамоте, четвертей и бемолей лиризма, вынесение их в чисто умозрительное, лишенное нотной разлинованности пространство: в надголосовое существование. Непереносимость и непроизносимость этой высоты сказывается в повторном уже употреблении слегка саркастического "на новом месте", во вновь надеваемой маске интервьюера. Ответ, однако, превосходит вопрос уже самим своим тембром и приближается настолько вплотную к сути дела -
Впрочем, есть ты -- есть стих: сам и есть ты -
Стих!
-- что угрожающий сорваться голос требует немедленного снижения. Снижение это осуществляется в следующей строке, но средствами настолько знакомыми, что эффект прямо противоположен предполагавшемуся: предполагалась ирония -получилась трагедия:
Как пишется в хорошей жысти..
Потому что сам он -- Рильке -- стих, "пишется" оборачивается эвфемизмом существования вообще (чем слово это в действительности и является), и "в хорошей жысти" вместо снисходительного становится сострадательным. Не удовлетворяясь этим, Цветаева усугубляет картину "хорошей жысти" отсутствием деталей, присущих жизни несовершенной, т. е. земной (разработанной позже в цикле "Стол"):