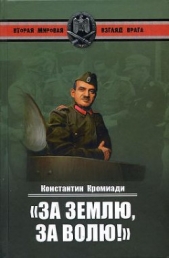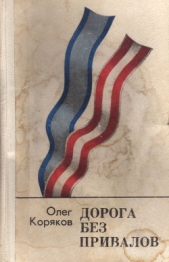Палисандрия

Палисандрия читать книгу онлайн
«Палисандрия» (1985) – самый нашумевший из романов Саши Соколова. Действие «Лолиты наоборот» – как прозвали «Палисандрию» после выхода – разворачивается на фоне фантастически переосмысленной советской действительности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«С Ольгой?»
«С какой еще Ольгой?»
«С Ольгой Олеговной».
«Что вы несете, проснитесь!»
«А, вы – об Анастасии. Прошу прощения, призадумался».
«Болванка готова?»
«Смотря по тому, что вы называете болванкой, милсдарь»,– ударился я вдруг в стрюцкое остроумие.
«Болванкой,– Юрий неодобрительно рассмеялся,– я называю проект письма, черновик такового, а вовсе не то, что вы думаете».
«Нет, Юрий Гладимирович, такою болванкой я еще не располагаю».
«Поторопитесь. На той неделе в Шманц отправится дипкурьер».
«В Шманц? Не стольный ли это град Бельведера?»
«Конечно».
Засим мы расшаркались и расстались.
Машина паблисити завертелась.
«Зачем вы стреляли в Брежнева?» – открыл мою пресс-конференцию хроникер американского «Ньюсуика» Эндрю Нагорски.
«Я намеревался убить его»,– был мой ответ.
«Для чего?» – поинтересовался Боб Кайзер из «Вашингтон Пост».
«Во имя прогресса и процветания всего человечества».
«Раскаиваетесь ли вы в содеянном?» – последовал вопрос канадской журналистки Викки Габоро.
«Ни за какие коврижки!»
«В какой стране вы желали бы получить политическое убежище?» –спросила итальянская репортерка Ориана Фаллачи.
«Ни в какой,– возражал я ей.– Я – русский и должен жить и умереть здесь, в Отчизне, даже если меня и сгноят в ней заживо».
Присутствовавшая тюремная администрация зааплодировала. Вопросы посыпались напропалую. Ответы мои были нелицеприятны и хлестки. Взахлеб работали бормотографы. (Нотабена. Изобретение бормотографа оказало на общество тот дисциплинирующий эффект, что оно научилось держать язык за зубами. А болтливые отщепенцы сами оказались за решеткой темниц.)
Ничего примечательного.
Весь день пролетел во плескалище. Пустота.
Экая все-таки сволочь этот Вучетич! В юности закончить школу ваянья и зодчества – быть подающим надежды скульптором – слыть бунтарем по разряду искусств, а на старости лет записаться в придворные чучельники – стать ретроградом – директором Всероссийского музея восковых фигур – и, проституируя оригинальный талант, не брезговать никакими заказами. Это ли не тотальная драма художника. С другой стороны, в провале нашего покушения виднеется и положительное зерно. Ведь если быть до конца гуманистом, нельзя не порадоваться: спасено еще одно мыслящее существо.
Но ежели быть просто-напросто человеком, человеком с так называемым человечьим лицом, то нельзя не бросаться на опорные прутья перил – не лезть на стены узилища – не сыпать на голову папиросный пепел – и не вопить: «О, прости меня, Шагане, прости, что унизивший высокую нашу приязнь временщик не возвращен стараниями моими во прах!» И нельзя не сгорать на декабрьском погребальном ветру – как свеча! – в трепетанье! – о нет!
«Милостивая Государыня, Анастасия Николаевна, голубушка!
Будучи сыном своих высокопоряд очных, благородных, однако давно почивших родителей и ради общерусской идеи дерзнув покуситься на жизнь недостойного супостата, я брошен в застенок, томлюсь, стоически жду заведомо неправедного судилища и не только не смею молить Провидение относительно некой возможности удостоиться некогда чести стать членом Вашей с Сигизмунд Спиридоновичем семьи, а не мыслю даже увидеть Вас в нынешней инкарнации – столь невзрачно мое настоящее и призрачно и неприветно грядущее». Эт сетера.
«Вас рвется видеть какой-то следователь»,– вошед, козыряет Орест Модестович.
«Насчет, извиняюсь, чего?»
«Говорит, что по делу».
«По делу? Да по какому?»
«По вашему».
«А – в чинах?»
«Три звездочки-с. Маленькие».
«Гоните в три шеи,– велел я Оресту Модестовичу. И добавил: – Совсем уже обезумели – лейтенантов шлют!»
Был Андропов. «Отлично, отлично»,– все констатировал он, читая мою болванку.
Перебелив, скрепляю пространной подписью и печаткой.
Забрав, обещал, что отправит заутра. Ушел, чтобы тут же вернуться.
"?" – удивился я.
«Добавьте относительно рекомендаций».
И я приписал постскриптум: «Рекомендации прилагаю».
Фланируя архангельскими бастионами, слушал шум корабельных рощ, стук дрозда и слегка пополнял гербарий. Как дивно смотрятся на куртинах России россыпи белых галантусов, желтых примул, фисташковых хризантем; как чинно свидетельствуют они благосклонному Вам свое безоговорочное почтенье.
Помимо меня в настоящем узилище содержится группа бывших советников уровня тайных: буфетчики, кладовщики, кучера, приживалы и проч. Мздоимцы, мздодавцы и казнокрады, они проштрафились, главным счетом, на ниве Кремля. Не желая ронять себя ни в своих же, ни в их глазах, я, разумеется, не намерен сходиться с сим уголовным мирком и на прогулках держусь в несомненном обособлении. Вместе с тем полагаю полезным исподволь наблюдать за нравами этой братии, тем более что в суматохе ареста я так и не возвратил владельцу спаренные бинокуляры. Наследники заповеданных нам беллетристами натуральной школы традиций, разве не призваны мы выявлять свищевые нарывы общества, дабы в последующих трудах врачевать их, бичуя.
В субботу и воскресенье, дни посещений и передач, к нашим вельможным пройдохам наезжают обычно их жены и, уединясь с ними в камерах, повергают своих благоверных в вопиющие ласки. Сегодня суббота. Однако нынче она совпала с днем закрытых дверей, и несмотря на протесты узников, жен не впустили. Взойдя ввечеру на пустующую и замшелую сторожевую вышку полюбоваться родимыми далями, замечаю, что несколько взяточников собралось в отдаленном секторе сада вблизи забора и через узкую щель в нем по очереди сношаются со своими супругами, находящимися по ту его сторону. Поспешаю за оптикой.
Вообразите ж мое неприятное потрясение, когда в объективе бинокуляров возникла картина, достойная кисти Гойи или резца Родена: там сношались не в первом значении слова, как мне по наивности померещилось, а во втором – сладострастном.
«А-а, вот ты какая, неволя»,– подробно рассматривая потуги и корчи сторон, догадался я. И впервые мне было жаль и самих проходимцев, и их развращенных разлукою половин.
На втором этаже, где подсобки, набрел на божественно темперированный клавир. Сел – открыл – тронул чуткие клавиши – взял десяток-другой аккордов и несколько музицировал, изумив капитан-каптенармуса и прапорщика от бухгалтерии непредвзятостью пианизма. Звучали Сальери и Моцарт, Сен-Санс и Лист. Рыдал, сотрясаясь всем существом. Выслушав, развели валерьяновых капель и препроводили в комнаты. По доброй традиции в понедельник всегда выдают комплекты свежих пижам. Вот и нынче.
Прилег полистать новомодного романиста Максимова, выступающего с острой критикой строя, но вчитаться не довелось: мухи, мухи – окошки-то все нараспах, беда, а закрыть – задохнешься. И чтоб не лежать без пользы, пытался представить в уме единицу с шестьюдесятью нулями, да тоже не преуспел. А ведь именно столько по данным последней переписи обитает на нашей планете мух. Миллион в восемнадцатой степени! Квадриллионы! Секстиллионы! Если это не высшая математика, то где же она?
То в спальне, то в кабинете качнется чуть-чуть абажур, зазвенит мельхиоровый подстаканник, подобие сквозняка шевельнет пожелтевший тюль, и чувство не то что бы смутной – а как бы неопределенной тревоги – тревоги и жалости – жалости и томленья – томленья и неги – то есть, в сущности, целая гамма чувств посетит Вас и здесь, в неволе. Гамма эта, а лучше сказать – просто чувство – чувство это такого рода, что лучше не бередить его, ибо разбередив, обречешься ему целиком. Покажется, будто что-то кому-то должен, да позабыл – и кому, и что; будто надо куда-то пойти ли, уехать, но тоже – куда? Сладко, томно. Сравнимо ли данное чувство с тем, которое Вы испытываете, посещая лавку кожевника, переживая мелодии прежних, более очаровательных лет, а также впервые за много месяцев отведывая некоторых специфических кушаний: сельдерей, голубику со сливками иль латук? Лишь черствый сухарь в человеческом образе не заметит сходства двух перечисленных чувств, хотя первое и пронзительней, и напрасней.