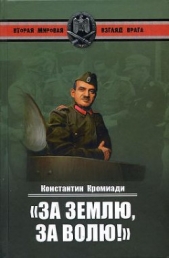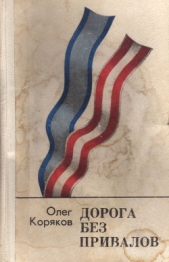Палисандрия

Палисандрия читать книгу онлайн
«Палисандрия» (1985) – самый нашумевший из романов Саши Соколова. Действие «Лолиты наоборот» – как прозвали «Палисандрию» после выхода – разворачивается на фоне фантастически переосмысленной советской действительности.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
«А как постановка?»
«Наслаждался каждой минутой».
«И декорации тоже понравились?»
«И декорации, и костюмы, а свет – сплошная феерия».
«Тем не менее,– сказал Самюэль,– мой Годо никуда не годится».
«С чего вы взяли? По-моему, вещица на ять».
«Он поступает бестактно».
«То бишь – не поступает никак?»
«Абсолютно».
«Что ж, в данном случае он, очевидно, не прав,– согласился я. – Некрасиво. Публика ждет, надеется, а ему хоть трава не расти».
«Шокинг,– кивнул Самюэль. – Моветон». Принесли второе.
«Скажите,– сказал он мне,– разве кто-нибудь из заглавных героев того же Ибсена позволил себе хоть единожды не возникнуть, не выйти к рампе?»
«Импосибль,– отозвался я. – Такого героя просто неверно бы поняли. Вообще, удивляюсь, как вам еще верят. Вернее, не вам, а в него».
«А я что ли не удивляюсь!» – сказал Самюэль. Мы пригубили.
«Я устал,– доверительно заговорил драматург.– Я устал удивляться. Устал от того, что Годо не приходит, а зритель и персонажи наивно верят, что он придет. Я устал ждать его вместе с ними. Я стар, одинок, бессонен. Я вдрызг устал от Ирландии, Греции, Франции, от Бенилюкса и Австро-Венгрии, от Канады и Кипра, от Африки и Латинской Америки. Вы понимаете, что я имею в виду? Это ж надо так изолгаться, извериться».
«Вы устали,– ответил я.– Вы изъездились».
«И тогда я приехал сюда, к Ледовитому океану, на край всего, чтобы придумать другой конец. А точней – дописать „Годо“ до того момента, когда он все-таки соблаговоляет прийти. Вообразите-ка: быстро входит Годо, медленно доедая яблоко. Это ремарка. Авторская ремарка. Вам нравится? Каково?»
Беккет казался предельно взвихрен.
«Задумка сама по себе недурная.– Я выдержал паузу.– Только не лучше ль наоборот: входит медленно – ибо с чего бы ему торопиться,– а доедает стремглав, ибо голоден».
«Лучше,– сказал Самюэль.– Много лучше. Я переделаю. Обещаю».
И тут принесли десерт.
«Послушайте, а зачем тут яблоко? – был мой вопрос.– Не слишком ли оно лобово и глобально?»
«Да, но как же иначе,– ответил официант.– Крем-брюле-то ведь яблочное, с цукатами».
«Я – не вам»,– объяснил я официанту.
«Пардон»,– извинился тот.
«К дьяволу яблоко,– молвил Беккет.– Вы – умница, Палисандр».
«Если ж идти до конца,– тыкал я вилкой в его блокнот, куда он едва успевал записывать то, что я ему диктовал,– то Годо не дано возникать ни быстро, ни медленно, так как он может возникнуть одним-единственным образом. Набросайте-ка: снисходительно входит Годо».
«Снисходительно! – эвристически закричал Самюэль на всю ресторацию.– Снисходительно! Гений!»
На нас оборачивались.
«От гения слышу»,– сказал я ему тактично. И отчетливо проговорил на всю залу: «Э-э, будьте добры, будденброков с икрой, пожалуйста». И хотя в меню их не наблюдалось, были принесены.
Мы добили надменного «Уокера», расплатились визитными карточками и вышли в норвежскую ночь – ночь Ибсена, Гамсуна, Грига, ночь Олафа Пятого и Шестого. Мы были пьяны как художники – вдохновенно, и все мыслимое и немыслимое вне ее – перед лицом ее – на лице ее фона – на фоне ее лица – представало посредственным до удушья. А над ее оркестровым провалом, зайдясь в немом исступлении, махал опахалом нордического сияния невидимый дирижер-вседержитель. О, как распахнуто чаяла щупальцев какого-нибудь грандиозного головоногого виртуоза клавиатура фиордов, украшенная беспорядочным нагромождением скал! Причем веками, веками.
Затем мы расстались. С Беккетом – в лобби шале, с Андроповым – у проходной Новодевичьего.
«Значит – договорились?» – сказал полковник, протягивая мне руку из катафалка.
«Есть»,– кратко бросил я по-военному.
Ход событий заметно ускорился. Эпоха летела на перекладных. Несмотря на то что очередной передел мира опять закончился вничью, общество претерпевало все большие изменения, а Юрий Владимирович все продвигался по службе. Он стал Кардинальным Хранителем.
Планы наши имели тенденцию-осуществиться. Не прошло и целого ряда лет, как с известной Вам целью я уже подъезжал к Александровским палисадникам. В инструкции, что мне передал накануне андроповский порученец Цвигун, которого Суслов подвигнет впоследствии на самоубийство, указывалось:
«Местоблюститель проследует из осенней резиденции (Кунцево) в зимнюю (Большой Кремлевский Дворец) обычным путем. Встречайте у Боровицких». День и час сообщались.
Вместе с инструкцией мне вручили обмундирование, пропуск в крепость и вид на жительство на имя какого-то кавалерийского подхорунжего, ордер на казнь и другие необходимые документы. Все были нотариально заверены.
Затянув портупею, я сел в ожидавший меня дормез и покинул его у Собакиной башни. Держа равнение на Вечный Огонь, правую руку – у козырька, а левую – на эфесе сабли, парадно печатал я март к пропускному Кутафьему пункту. Огнепоклонники и другая чистосердечная публика, гулявшая во саду, испытала прилив совершенно законной гордости. Отставники вытягивались во фрунт. Влага военно-патриотического умиления остекленила им очи.
Расчет Андропова оправдался. В отличие от Якова Незабудки другой старослужащий часовой оказался типичным раззявой. Не осознав, сколько лет у меня пролетело в изгнаньи и как я в нем повзрослел, он решил, что я попросту предаюсь обычной своей забаве – играю в солдатики, и поэтому не спросил даже тех фальшивых бумаг, которыми я в избытке располагал.
Я прошел за Троицкие ворота и задворками направляюсь в гвардейскую биллиардную, что при всех режимах находилась в Свибловой башне. Чтобы убить остававшееся до акта время, сгонял, как выразился один офицер, с ним партею. Звали этого морского кавалергарда Орест Модестович Стрюцкий.
Являя собой род мозглявого слизняка, он принадлежал к той довольно распространенной породе граждан, что изначально вступают на путь добра и общественного порядка. Во всем руководствуясь соображениями справедливости, чести, люди подобного склада чем-нибудь поминутно заняты. Где-то учатся, служат, куда-то долго спешат и пишут, на ком-то женятся, долго производят от них детей, о чем-то пекутся, заботятся, достигают и званий, и степеней, долго важничают, глубокомыслят. А после, когда настает этим людям пора оглянуться и вспомнить пройденное, оказывается, что вспомнить положительно нечего. Тогда-то и начинают они приискивать себе жизнесмысл и, сами того не заметив, становятся завсегдатаями притонов, рабами своих нездоровых эмоций. Они впадают в дремучий разврат, предаются вину, табаку, сальным шуткам. И это именно их, орестов Модестовичей, то и знай зачисляют в пропавшие без вести, чтобы найти вдруг погибшими от припадка апоплексии в постели какой-нибудь полусветской мадам. Карьеру же их венчает итог еще менее славный. Изгнанные со всех прежних служб, граждане данного сорта кончают истопниками, курьерами шорных фабрик, смотрителями общественных санузлов, маяков или вовсе в пространство. И ежели им случается игрывать на биллиарде, то ассоциации, которые вызывают у них обыкновенный кий и пара оставшихся на сукне шаров, откровенно похабственны. Тем не менее ни в какую распутицу не застанешь орест модестовичей за чтением не то что там Фрейдов, но и элементарных Павловых. И что характерно? При всей их непросвещенности в вопросах известного круга, стрюцких отличает патологическая недоверчивость. Например.
Мысля по-своему монархически и любя побеседовать в ракурсе прошлого, они слегка лишь коснутся значенья земельных реформ Столыпина, но зато со всего кондачка перескажут Вам будуарные анекдоты о Екатерине Второй и со всею стрюцкою основательностью остановятся на параметрах Его Величества Петра Первого срама, длина которого, как известно, равнялась двенадцати спичкам. Правда, не наших, а шведских, поскольку измерения производились на Готланде, где молодой тогда человек вкушал европейских премудростей. Данные эти не вызывают у стрюцких ни капли сомнений. А стоит Вам намекнуть, что лично Ваше зизи достигает девятнадцати тех же спичек в длину, как стрюцкие заявляют, что не поверят полученному сообщению, пока не проверят его воочию или хотя бы на ощупь. Ну-с, а Вы, разумеется, не намерены – не намерены доставлять орестам модестовичам подобного удовольствия и суете им под нос обыкновенную дулю. Тут стрюцким делается обидно, они протестуют, шумят – и пререканиям вашим не видно конца. Слава Богу, что в нашем случае на лестнице раздались шаги и дыхание вестовых, бегущих уведомить о приближении брежневского кортежа, и мы прекратили этот нелепый скандал, едва не поставивший нас к барьеру.