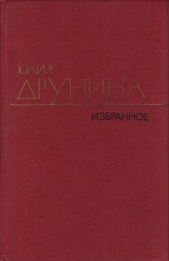Камушек на ладони. Латышская женская проза
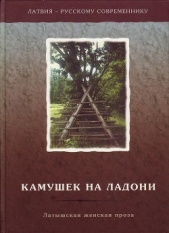
Камушек на ладони. Латышская женская проза читать книгу онлайн
…В течение пятидесяти лет после второй мировой войны мы все воспитывались в духе идеологии единичного акта героизма. В идеологии одного, решающего момента. Поэтому нам так трудно в негероическом героизме будней. Поэтому наша литература в послебаррикадный период, после 1991 года, какое-то время пребывала в растерянности. Да и сейчас — нам стыдно за нас, сегодняшних, перед 1991 годом. Однако именно взгляд женщины на мир, ее способность в повседневном увидеть вечное, ее умение страдать без упрека — вот на чем держится равновесие этого мира. Об этом говорит и предлагаемый сборник рассказов. Десять латышских писательниц — столь несхожих и все же близких по мироощущению, кто они?
Вглядимся в их глаза, вслушаемся в их голоса — у каждой из них свой жизненный путь за плечами и свой, только для нее характерный писательский почерк. Женщины-писательницы гораздо реже, чем мужчины, ищут спасения от горькой реальности будней в бегстве. И даже если им хочется уклониться от этой реальности, они прежде всего укрываются в некой романтической дымке фантазии, меланхолии или глубокомысленных раздумьях. Словно даже в бурю стремясь придать смысл самому тихому вздоху и тени птицы. Именно женщина способна выстоять, когда все силы, казалось бы, покинули ее, и не только выстоять, но и сохранить пережитое в своей душе и стать живой памятью народа. Именно женщина становится нежной, озорно раскованной, это она позволила коснуться себя легким крыльям искусства…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Пианино… Нет, для одного дня всего этого было бы много. Появятся еще сомнения в истинности незаметного перетекания, смешения и растворения реальности в иной реальности. Нет, нет! В таком возрасте уже нельзя себе позволить ни благоговейного восторга, ни бурной любви, как и зажигательного танца. Мадам Беата после последнего аккорда лишь поднимает правую руку с лебединой грацией, и так рука схожа с изгибом цветочного стебелька, приникшим к серебристо-бархатной грудке бутона. Грешно было бы еще чего-то ждать и желать от дня, который уже заливает половодьем света распускающуюся вербу. Вот потому-то рука мадам Беаты мгновенно замирает над трубкой — извините, но этого не может быть! Разве телефон не отключен? Она же не внесла эту чудовищную абонентную плату за последний месяц. Все равно редко звонит, провода давным-давно запутались в яблоневых ветках, место подсоединения под стрехой поросло мхом. Не успели отключить, как грозились? А может все же? По крайней мере, сообщат, скажут. Беата стремительно берет трубку. Дыхание перехватывает и ударяется где-то в глубине о ребра. Почему бы не поверить в чудо, раз мир сегодня пронизан светом Воскрешения? Сообщат, что на одиноких хуторах… что отыскались благодетели… что снова звонят и разговаривают, и… Да, мадам Беата у телефона! Голос молодой, ясный, бархатистый мужской тенор, дикция четкая, словно прошел театральную школу Зелтматиса. Ну, конечно, теперь все через конкурсы, не пошлешь на деловые переговоры заику или шепелявого без вставных зубов. Вы, мадам, одинокая пенсионерка? Молодой человек наверняка представился, назвал свое имя, какое-то учреждение, но мадам Беата от волнения, да — скорее всего приложила трубку к плохо слышащему уху. Голос молодого человека завораживал, такой ясный, совсем рядом, на расстоянии вытянутой руки, таинственный и проникновенный — мадам, вы одинокая пенсионерка? Очевидно, Латтелеком что-то скомбинировал, какие-нибудь скидки для тех, кто в дремучих углах да в древних летах. Хорошо еще, что не сказал — тетушка или мамаша, третий раз — мадам, как вы себя чувствуете? Как обходитесь? Спасибо и благодарение Богу! Вы относительно моего телефона? Нет, нет, мадам, у нас для вас маленькая радость, небольшой подарок. Ах, что вы! Трудно мне что-либо предложить. Пианино я оставила музыкальной школе. Разве что книгу… газету… поездку в театр… Дорога нынче обойдется втрое дороже. О, Боже, не произнесла же я это вслух? Не хватало еще выложить им свои неисполнимые желания! Благодарю за любезность! Я оптимистка — обхожусь, спасибо. Да, мадам, со всем уважением к вашей гордости латышки… но если люди от всего сердца… хотят порадовать… И впрямь, разве ж можно так отказывать? Разве что мыло какое-нибудь невиданное? Ароматную свечку? А то и витамины? Мадам Беата молчит и не смеет положить трубку, пока молодой человек на том конце то ли деликатно смущается, то ли советуется с кем-то — им, видите ли, пришла посылка со шведским бельем, понятное дело — новое, новое… хлопчатобумажное… здоровье… в специальной упаковке… не каждый такое сумеет оценить. Вот они подумали и решились, мадам Беата должна их извинить и не отказываться. О, Боже, мадам Беата краснеет и смущается, и молчит. Третий раз произносит «спасибо», а трубку положить не решается, ведь молодому человеку не очень-то удобно распространяться о женском белье. Но если он это делает, значит, человек ответственный. И в конце концов, почти все известные в мире дизайнеры — мужчины. Мадам Беата краснеет и смущается, потому что молодой человек чрезвычайно точен и корректен, как и полагается в правовом государстве, — просит назвать номер ее белья, размер груди, бедер. Закрытый или открытый? Господи, сжалься, трубка упала из рук и с грохотом повисла на черном витом шнуре. Извините, мадам, очевидно, мы ошиблись, какие вы назвали цифры? Назовите еще раз по буквам, у нас здесь иностранная документация, мы ведь хотим, чтобы каждому подошло, чтобы это был настоящий праздничный подарок, а не просто распределить по домам. Взгляд мадам Беаты лихорадочно ищет спасения, цепляется за цветок, залитый солнечным светом. Сестра Цикламена, милая! И язычки полураскрывшегося бутона откликнулись, раздвинулись с едва заметным дрожанием, освободив третий, совсем еще слабый и бледный росточек, вот-вот венчик цветка станет похож на личико ребенка с удивленно раскрытым ротиком. Сестра Цикламена, поддержи меня, укрепи меня в моем стыде и унижении! Как могла я так низко пасть в своем старческом бессилии и невежестве, что не в состоянии с той же легкостью, как Шумана и Рахманинова, отбарабанить этому господину несколько отрезвляющих штучек, которые каждая современная женщина знает наизусть, как свой гражданский код. Мадам Беата краснеет и взмокает как дебильная монашка-пуританка, телефонная трубка становится скользкой, словно в руку ей силком сунули гнилую морковку. Мерзкая соленая слюна заполняет рот, когда мадам Беата снова говорит спасибо и буду рада любому подарку, только, извините, — не могу никуда ни пойти, ни поехать. Что вы, мадам, мы все доставим вам домой и приносим извинения за беспокойство, за эти иностранные формальности, как говорится, демократия и правовое государство. Представитель Финляндии передает привет, и в трубке непонятно булькает, слышны как будто музыка и смех.
С минуту мадам Беата пытается справиться с дыханием, дышит глубоко, чтобы сердце вновь заработало в привычном ритме, и долго сидит, судорожно сцепив ладони, так долго, что даже косточки белеют, потом встает, встряхивает затекшими руками и с нарочитой безжалостностью подходит к зеркалу, взъерошивает кудряшки над ушами, плавным движением отшвыривает засохшую губную помаду, та закатывается под шкаф. Ну и пусть! Мадам Беата улыбается себе и громко произносит — ффу-у! Прямо в лицо. Никогда и ни за что не впадет она больше в тошнотворное пуританство столетней давности. Она, которая вот только что вывела в жизнь молодых пианисток, пила с ними шампанское и сплетничала о том, кто обладает наибольшей моральной свободой — миллионерша или служанка и куда пришить последнюю пуговку на мини-юбке, едва прикрывающей выпуклость, за которой начинается все по полному сервису.
Круглый столик мадам Беата выдвигает прямо на середину комнаты, одну за другой меняет три скатерти и все три сует обратно в ящик — нет и нет! Цикламене не подходит ни вышивка крестом, ни пожелтевшая шелковая кружевная, ни даже льняное полотенце в национальном стиле. Беата ставит горшочек в низкую хрустальную вазочку, которая тотчас откликается тремя розоватыми отблесками. Рядом такую же размером с ракушку жемчужницы с какими-то особыми прозрачными малюсенькими печеньицами из теста для облаток, ни больше ни меньше. Подносит к глазам — не пожелтели ли с девяностого года, когда Одилия вернулась из концертного турне за границей? Может, попробовать одно? Но сколько тогда останется? Разве ж такие безделицы предназначены для еды? Не для восхищенного любования? У одного уголок открошился, его она спрячет под остальными семью. А вот эту пылинку, ее-то уж она может позволить себе слизнуть. Растаяла как снежинка, так в рот и не попав. Кремовая шелковая кружевная салфетка сверху — и пусть теперь является хоть сам шведский король — у Цикламены ни одна ресничка не дрогнет от удивления и подобострастия. Ведь они обещали, не так ли? День назвали или нет? Нет, конец был вообще скомкан, она ничего не помнит — она положила трубку? Или там отключилось, в городе? Она закончила разговор пятым спасибо и извините? Или они сказали — пока? Назвали день, число, еще что-то? Когда? В пятницу? В субботу? Мадам Беата приведет в порядок свой мир, если уж этот иностранный корабль все-таки пришвартуется, если это не недоразумение или бредовый сон, что было бы предпочтительнее.
Но мадам Беате не везет — все ее предположения сплелись в клубок, побывавший в кошачьих лапках. В воскресенье вечером она уже укуталась в толстый махровый халат, надела меховые тапки, только дверь, наружную дверь, не успела закрыть на ночь. С грохотом и воплями, словно их только что смыло с палубы, в дом уверенно ввалились молодые люди. Ах, Боже, зачем же такой толпой? Мадам Беата боится проявить бестактность — поднять глаза и сосчитать. К тому же она чувствует себя очень неловко из-за прохудившегося халата, который на заду, вероятней всего, вытянулся и висит, как мешок. Она отступает в глубину комнаты, садится на тахту и поспешно забивается в самый угол, рядом с немым радиоприемником. Пожалуйста, пожалуйста, берите стулья, бормочет она, прекрасно зная, что их всего два. Можно бы взять еще две только что обитых мебельной тканью кухонные табуретки, если б только мадам Беате дали вставить хоть словечко и распорядиться. Но в этом нет необходимости — один из парней в черной куртке уже устроился на подлокотнике тахты рядом с мадам Беатой. Второй, правда, пятится, обеими руками вцепился в шапку, но не для того, чтобы снять, а натянуть прямо на глаза. Девушки тоже толпятся на пороге. Пожалуйста, пожалуйста, возьмите стулья! Одна тащит стул от стола поближе к двери, вторая бросает на пол то ли ящик, то ли мешок. Сквозняк лижет голые лодыжки Беаты, синие пупырышки поднимаются все выше и выше, коленки дрожат, трясутся полы халата. Ей кажется, что гости оставили входные двери настежь. Так спешат, времени в обрез? Что ж тогда усаживаются, бросили бы свою ношу и шли б себе, раз машина ждет на дороге. Извините, вы из-за меня, воскресным вечером. Ничего, мадам, такая работа, безвозмездная, бесплатная, не жалуемся. Давайте, примерим, мадам, вы нам свои номерочки… может, мы не расслышали… Девушки, разгружай манатки! Липкий взгляд ползет по голой шее мадам Беаты. Уж не дрожит ли посмеиваясь седая прядка возле левого уха от бесстыдного дыхания юноши? Мадам Беата пытается сдвинуться ближе к середине. Извините, молодые люди, там еще один стул! Что за чужой запах? Словно мокрый пес пробежал или пустые бутылки где-то валяются. И правда, дверь до конца не прикрыли! Мадам Беата нервно ерзает, поворачивается, надо встать и выйти — на улицу, во двор, в сад, откуда видны освещенные окна соседского хутора по ту сторону луга. Но парень, похоже, понял направление ее мыслей, от рукава мокрой куртки, который чуть ли не закрыл ей рот, мгновенно перехватывает дыхание. Мадам, у вас холодно, раздеваться будет неприятно. Да. Да. Редко топлю. Не люблю, когда дымом пахнет, пытается засмеяться мадам Беата, а у самой губы свело от холода, ну, курица и курица. Современная молодежь такая раскрепощенная, даже как-то неловко от их поведения! Нет, ничего страшного, нет, ноги на стол никто не кладет. Рука обнимает плечи мадам Беаты, и этот старый халат, эта тряпка, кажется, ни одной пуговицы и даже без пояса, — вот-вот соскользнет со спины. Пожалуйста, вот печенье, угощайтесь… это Одилия из Лондона… на редкость талантливая ученица… пожалуйста, не стесняйтесь… печенюшки… Разве ж это печенье — прозрачные как облатки, а сестра Цикламена уже тремя цветочными клювиками тянется к мадам Беате. Девочки, обратили внимание на мой цветок? Редкий, необыкновенный оттенок, не правда ли? Второй раз цветет… цвет изменила… Бархатистые цветочные стрелки напряжены, как и руки Беаты, судорожно вцепившиеся в расползающиеся на груди полы халата, вот-вот обнажатся плечи, опавшая грудь, ветхие бретельки рубашки, которые и без прикосновения соскальзывают с плеч. Сестра Цикламена, дорогая! Мадам Беата ничего больше не слышит и не видит, ее шея с звенящими жилами все тянется и тянется туда, откуда исходит теплый спасительный свет. Глаза не моргают, веки застыли, губы пересохли, только кудряшки подпрыгивают возле ушей. Милая сестра Цикламена, держись, дорогая! Ужасно! Не подвинул ли кто горшочек на край стола? Если бы можно было шевельнуть руками, взять цветок и прижать к лицу, к обнаженной груди. Нет, пальцы застыли, одеревенели и все же отчаянно держатся за отвороты халата, локти прижаты к обвисающим складкам.