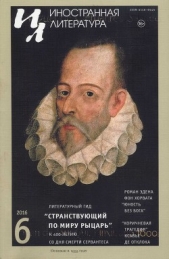Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однажды мы присутствовали при том, как он прооперировал больную туберкулезом корову — отрезал ей половину вымени. Рана была ужасной. — Когда он удалял коровам загноившийся послед из матки, я удивлялся, что он настолько свободен от чувства отвращения. Я поделился с ним предположением, что употребляемое в пишу мясо кастрированных животных вредит здоровью людей или, по крайней мере, является малоценным.
Он передернул плечами;
— Возможно. — И добавил: — Здесь на острове кастрируют только хряков, быков же кастрировать не принято…
— В Тессине, — сказал я, — я, еще молодым человеком, видел, что и свинью, выделенную для откармливания — после того как она уже отслужила свое в качестве свиноматки, — подвергают кастрированию.
— Правда? — усомнился он.
— Конечно, — подтвердил я. — Свинью связывают; человек, опытный в таком деле, вспарывает отчаянно визжащему животному брюхо, разыскивает яичники, удаляет их и потом снова зашивает брюшную полость. — Мы помолчали. — Повсюду в тех горах эхом отдается визг. Не верю я ни в какое посмертное воздаяние, — добавил я после долгой паузы.
Он, похоже, прочитал мои мысли.
— Не всегда легко быть ветеринаром, — сказал.
Он объяснил, что не любит кастрировать животных. Но как ни крути, это часть выбранной им профессии; его зовут к молодым жеребцам, поросят же здешние крестьяне холостят сами. — — —
Итак, он вошел. Я провел его в гостиную. Предложил, что приготовлю для него чашку крепкого чаю. Он, поколебавшись — принять ли такое предложение, — потом все же радостно поблагодарил. Руки у меня дрожали.
— Где Тутайн? — простодушно спросил Льен.
— Тутайн у… — запнулся я на втором же слове.
— Что-что? — переспросил он, видимо не подумав плохого.
— Уехал, — быстро подправил себя я.
— На континент? — не отставал Льен.
— На родину, — сказал я.
— Надолго? — спросил он.
— Не знаю.
— Вы, выходит, остались в полном одиночестве. Бедный вы, бедный! — сказал он отчасти в шутку, отчасти же — потому что новость в самом деле его опечалила.
— Я доволен, я теперь много работаю, — выдал я еще одну ложь, прежде чем исчезнуть в направлении кухни.
Уже выйдя из комнаты, я подумал, что теперь он, наверное, спросит о ящике в гостиной, которого не мог не заметить и который увидел сегодня в первый раз. Я пожалел, что не набросил на ящик какое-нибудь покрывало. Я пытался успокоить себя: Льен, мол, не догадается, что это гроб Тутайна. К тому времени, когда я вошел в гостиную с чашкой чая, мне не удалось придумать подходящую отговорку. Но Льен больше ни о чем не спрашивал. Сказал, что он заглянул к нам ненадолго, потому что случайно проезжал мимо (как бы то ни было, ему пришлось отмахать несколько километров, чтобы от проселочной дороги попасть в нашу глушь) и потому что его привлекла возможность выпить чаю. Скорее всего, для его визита вообще не было причины. Льен, думаю, был первым, кто застал меня одного. О ящике он не спросил. Потому что, хотя и заметил его, наверняка принял за сундук, не скрывающий в себе никаких тайн, — просто новый, гладко отполированный сундук.
Уходя, он сказал еще:
— Передайте от меня привет Тутайну, когда будете ему писать.
Я уже упомянул о быстродействующих лекарствах, которые Льен применял к животным… Льен еще живет и здравствует. В любую минуту он может объявиться здесь; непонятно, почему я так далеко отодвигаю от себя встречи с ним, как будто они целиком и полностью принадлежат прошлому, как будто не могут повториться. Наши взаимные визиты стали более редкими, что правда, то правда. Илок — если не считать одной сильной инфекционной простуды — до сих пор никакими недугами не страдала. Льен дал ей прозвище Отшельница. Я знаю, что меня он за спиной называет Затворником. Он не хочет этим выразить никакого упрека, разве что удивление. Он знает, что я люблю Илок. Он застал меня врасплох, когда я стоял на пороге дома, а Илок ноздрями обыскивала меня, пока не извлекла из всех моих карманов хлебные крошки и кусочки сахара, которые я специально для нее там сохраняю.
— Вы очень нежны друг с другом, — сказал ветеринар, усмехнувшись.
И я не стал этого отрицать.
Илок нежна ко мне. Одно из величайших утешений — что она по собственной воле притуляется к моей щеке, обнюхивает меня. Я могу залезть к ней под брюхо, спрятать голову между ее ногами. Мы с ней можем спать рядом, зарывшись в солому, и ее подкованное копыто никогда меня не заденет — разве что дотронется вскользь, будто ощупывая. Это великое чудо: что шкура у нее такая мягкая и так умопомрачительно натянута поверх мускулов и сухожилий. Вполне вероятно — хотя я этого момента не помню, — что после смерти Тутайна я должен был решить: выбрать ли мне в качестве друга человека или животное. Я выбрал Илок. (Эли так и остался собакой Тутайна.) Я тогда не осознавал, что речь вдет именно о таком выборе: просто я не видел человека, который мог бы стать моим другом. Какие-то люди, конечно, промелькивали мимо меня, не стану этого отрицать. В Ротне, в танцевальном зале, который там называют «театром», мне иногда кивали девушки, которых я мог бы счесть привлекательными. Молодые, с приятными лицами, с крепкими ногами и покачивающимися бедрами. Одной или другой из них я порой отвечал улыбкой. Приглашал потанцевать, а после — выпить со мной стакан пунша. Большего я от них не хотел. Я не хотел брать их с собой домой. Или, может, хотел, но моя воля этого не желала. Я не был готов подарить им свое сердце или, как говорят, большую любовь, а мог бы предложить только час или полночи несовершенного удовольствия, то есть нечто обманчивое. Я никогда не мог бы им сказать, что за стенкой, в сундуке, похоронен Тутайн. Им было бы трудно понять такое. Они бы испугались… Припоминаю, как однажды вечером к моему столику шагнул молодой парень. Он много выпил, иначе вряд ли набрался бы мужества, чтобы заговорить с незнакомым человеком. Парень спросил, не нужен ли мне батрак. Он, мол, свободен и может, если я соглашусь, прямо сейчас последовать за мной. — Он был совсем простодушный, роста среднего, неиспорченный, с красивыми выразительными руками. Я отрицательно качнул головой. — Может быть, в те часы или минуты на танцплощадке я и сделал свой выбор, навсегда.
Теперь, когда я вспомнил этого парня (хотя черты его лица уже стерлись в моем сознании), мне вспомнился и еще один. Одна из моих теть пожелала, чтобы после смерти ее кремировали. Жестяная урна, покрытая черным лаком, в которую сотрудники крематория поместили выгоревшие остатки костей (урна была снабжена маленькой медной табличкой, с проштампованным порядковым номером), оказалась у нас в доме. Подразумевалось, что со временем прах будет где-то захоронен. Видимо, мой отец собирался отложить это торжественное событие до момента, когда он приобретет для себя и своей семьи кладбищенский участок. (Кладбище, на котором покоится мой дед, уже тогда постепенно превращалось в парк. Могилы располагались на глубине в пять метров, корни деревьев до них не доставали, и топот человеческих ног по недавно проложенным дорожкам мертвым не мешал; о семейном надгробии же, новоготическом, отец особенно не жалел.) Но покупку отец отложил на неопределенный срок, и жестяная урна пока что оставалась в доме, в ящике комода. Так вот: однажды на улице мне повстречался молодой человек, который со мной поздоровался (я тогда учился в старшем классе гимназии); это был мой прежний товарищ, русский {94}, когда-то он пытался уберечь меня от того ритуала осквернения, что является обязательной частью мальчишеских тайн. Я этого парня не узнал. Я его совершенно забыл. Он же теперь меня обнял, расцеловал в обе щеки, как если бы все еще любил. Мне, однако, сразу вспомнилось, что он, в свое время, сам нарушил скромные требования мальчишеской дружбы. Под каким-то сомнительным пред логом он от меня отдалился. Но хотя тогда мое сердце обливалось кровью, всё это давно осталось позади. — Я взял его с собой в нашу квартиру. В детстве он был очень суеверным. Он исповедовал православную веру; при крещении ему повесили на шею, на цепочке, маленький крест. Этот амулет потерялся — то ли во время бегства из России, то ли при купании в Балтийском море (подробностей мой друг избегал, поскольку стыдился признаться, что его отец был революционером или интеллектуалом). Мать прокляла мальчика за эту потерю и полагала с тех пор, что он — отмеченный злом. Она перестала его любить. Периодически била. Она любила теперь только его младшего брата, чей крестильный крест никуда не делся. Мой друг вынашивал коварные планы относительно того, как он украдет у брата этот крест. Он рисовал в своем воображении, как брат сладко спит в постели, с крестом на груди. И как легко будет этот крестик присвоить… Я ему отсоветовал. Я утешал его, пока он плакал. Я пытался убедить этого мальчика в том, что выпавшие ему на долю злоключения с амулетом никак не связаны. Я даже предложил, что поговорю с его матерью; но она понимала только русский язык и немного — французский. — Вот о чем я думал, потому что мы, встретившись, не нашли ничего лучшего, как рассказывать друг другу какие-то скучные пустяки. Общих интересов у нас уже не было… Я нашел в соседней комнате жестянку с человеческим прахом, чтобы поставить эксперимент над прежним товарищем: выяснить, осталась ли его душа по-прежнему суеверной. Я показал ему жестянку и спросил, догадывается ли он, что в ней. Я даже встряхнул урну, и внутри нее что-то глухо звякнуло. Догадаться он не мог. Он тоже взял странный сосуд в руки, встряхнул его. Тут-то я и сказал, что внутри — человеческий прах. Мой гость от ужаса чуть не выронил жестяную урну. На его толстощеком лице вылупились темные глаза. Он поспешно поставил урну подальше от себя, словно это был горшок с открытым огнем. И тотчас покинул наш дом. Даже не попрощавшись.