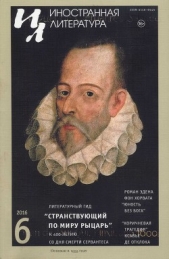Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая)

Часть вторая. Свидетельство Густава Аниаса Хорна (Книга вторая) читать книгу онлайн
Приехавший к Хорну свидетель гибели деревянного корабля оказывается самозванцем, и отношения с оборотнем-двойником превращаются в смертельно опасный поединок, который вынуждает Хорна погружаться в глубины собственной психики и осмыслять пласты сознания, восходящие к разным эпохам. Роман, насыщенный отсылками к древним мифам, может быть прочитан как притча о последних рубежах человеческой личности и о том, какую роль играет в нашей жизни искусство.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Между тем моя любовь — после происшедшего — стала ненасытней и непостижимей. Безудержно стремилась она к тому мгновению, когда Тутайн, в кубрике чужого фрахтового парохода, стоял возле моей койки и делал свое признание. Что же случилось в тот момент со мной? Я не спрашиваю, какие мысли мною двигали. Их я, быть может, и сумел бы вновь собрать; я даже написал — правдоподобно, как мне кажется, — что какие-то мысли тогда возникали и определяли мои действия. Но независимо от этих мыслей, вне сферы моего контроля и моей воли, со мной что-то происходило. И дело тут не только в сладости ощущения причастности к заговору, принятия анархистского решения. Не только — в искаженном, противоестественном любовном влечении, в обмане чувств, в замешательстве, из-за которого я не отдавал себе отчета в происходящем. Потому что Тутайн в те минуты не мог представлять собой желанный объект влечения. Он вонял потом, даже грязным сортиром. А для меня это, с незапамятных пор, — один из самых отвратительных запахов. О внешней привлекательности Тутайна тоже говорить не приходится. Ее в то время вообще не было. Страх совершенно исказил его лицо. Показная попытка убить меня, которая предшествовала признанию, была сплошной глупой ложью. Тутайн не хотел меня убивать, он не хотел быть убитым, он только хотел создать видимость такого хотения. Даже его признание было ненастоящим. Только страх — тот безобразный страх, который мы сами наполняем зримыми образами, — действительно овладел им и превратил его в деревянную куклу. Однако я — или мое любовное чувство — будто только и ждал этого момента. Как больной, истерзанный ужасными болями, который считает благодеянием укол проникающего в тело шприца с морфином… и даже предчувствует, что боли вот-вот исчезнут, хотя по опыту знает, что его муки продлятся еще полчаса: так же и я воспринял преступление Тутайна чуть ли не с одобрением, только по видимости колеблясь, тогда как в душе с самого начала был готов не только простить ему, но и оправдать его, возвысить, поставить над собой — потому что я ждал от этого человека шанса на изменение меня самого. Я знал, что если когда-нибудь такое изменение произойдет, то произойти оно может только с его помощью. И разум меня в те минуты не поучал. И сознание не предсказывало подлинных последствий прощения, дарованного с такой легкостью.
Изменение, на самом деле, пришло очень поздно. Лишь после того, как мы узнали, что никакая школа духа, никакое чувственное переживание, никакой заговор и никакое намерение не могут изменить элементы нашей души: что мы заперты в нас самих — каждый сам по себе, со всеми качествами, которые были ему даны изначально или со времени его последнего изменения. Совершенно невыполнимым оказалось главное желание: уподобиться друг другу и все наши прегрешения разделить пополам. Призвания, которым мы следовали, разделяли нас. Но наша душа начала, как бы под воздействием яда, погружаться в некую грезу: во вторую искусственную действительность {97}. Вожделение нашей любви стремилось к странному плотскому желанию: чтобы мы стали братьями-близнецами. Природа — которая вновь и вновь создает типическое, и так четко разделяет биологические виды, и даже в химических соединениях не допускает никаких несоответствий или нарушений правил, — Природа словно опасается точного воспроизведения — в протоплазме — уже-созданного. Она применяет принцип варьирования, как если бы ее целью было бесконечное многообразие порождаемых сущностей. Она всякий раз чуть-чуть изменяет душу, чуть-чуть — кишки, рисунок на подушечках пальцев, форму ногтей и сосков, нос и уши, цвет волос и глаз: как будто для нее чрезвычайно важно вводить мелкие различия, чтобы каждая воплощенная душа имела собственное имя и особые признаки, чтобы во веки веков одну душу нельзя было бы спутать с другой и чтобы в Главную Отчетную Книгу Мироздания никогда не закралась ошибка. Но все же время от времени Природа, как если бы она хотела опровергнуть себя или сожалела о собственной строгости, создает почти-тождественность однояйцевых близнецов. Из одного сделай два, как сказано в «ведьминой таблице умножения» {98}. Природа умеет и такое. Нарцисс влюбился в собственное зеркальное отражение, так рассказывают. Мы все подобны ему. Наша любовь к себе безгранична. Никакой изъян, телесный или душевный, не может ее погасить. Если нам ампутируют руку или ногу, это не ослабит любовь, мы только будем чувствовать еще большее сострадание к себе: гложущее сожаление, что ту часть тела, которая у других людей сохраняется, у нас отняли. Никакая неплодотворность духа не заставит нас в страхе отшатнуться от себя. Как бы сильно мы ни завидовали людям, более счастливым, чем мы, превратиться в них мы бы не хотели. Мы, может, и хотели бы получить их молодость, их деньги, их ум, их благополучие, их жену, их ребенка, их батрака, их хутор, их дом и всё, что им принадлежит, но только не той ценой, что мы потеряем себя, что наша любовь к собственному зеркальному отражению угаснет. Мы и не можем такого. Мы не можем захотеть стать другими. Мы можем разве что провозгласить это желание на словах. Тут же поставив множество ограничительных условий. Потому что мы знаем: при подобном превращении наше нынешнее сознание было бы уничтожено; нам пришлось бы пройти через ночь смерти, перенестись в новые рождения, в иные времена, в незнакомые судьбы, в неуютную чужую плоть. Нам не дано стать другими, чем мы есть. — Только изредка возникает ситуация, когда нет нужды в зеркале, чтобы отражение смотрящего шагнуло ему навстречу: когда один из братьев-близнецов смотрит на другого. Такой брат может сказать о теле, которое ему не принадлежит: «Это я. Я знаю его тайны. Его удовольствия — мои удовольствия». Он любит брата как самого себя, даже не желая этого. Он не может захотеть стать этим вторым человеком, потому что уже им является. Ему даже в голову не приходит такая мысль, потому что она была бы неправильной. Захоти он украсть корову, он мог бы сказать брату: «Ты вор»; потому что знал бы: брат тоже этого хочет. Может, дело у них дойдет до того, что каждый будет говорить: он, дескать, ненавидит другого. Любой человек в какие-то моменты ненавидит себя; но отсюда еще не следует, что он совершит самоубийство. — Именно такой братской близости мы желали. О ней грезили. И мы знали, что в своем тождестве не будем друг друга ненавидеть, а будем любить. Только очень поздно — после того как Тутайн вступил в борьбу с ангелом и победил его — на нас снизошла благодать: удовлетворенность тем, что мы стали материалом для эксперимента, который сделал нас более похожими друг на друга… К сожалению, нам понадобилась помощь врача-морфиниста — человека, лишенного внутренней опоры, — чтобы такой эксперимент вообще мог осуществиться. Мы во что бы то ни стало должны были получить эту благодать — потому что переживали крайний упадок духа. Моя творческая сила, казалось, иссякла; бремя Тутайна — быть самим собой — стало для него неподъемным. Не вина как таковая преследовала его, но призрак вины. Тогда-то он и объявил, что нашел быстродействующее лечебное средство. Оставаясь в полном сознании, мы испытали на себе волшебную силу этого снадобья. Тогда я не верил, что с нами произошло какое-то изменение. Я воспринимал произведенный обмен кровью в символическом плане и был настолько слеп, что не замечал его последствий. Тутайн, который подвергся насилию и был повержен, поскольку новое состояние завладело им как болезнь, пытался объяснить мне, что произошло. Это реальность, что его телесная конституция изменилась. Он стал слабее. Реальность — что у меня, наоборот, сил прибавилось и я обрел то внутреннее равновесие, которое позволило мне снова сочинять музыку. Мой способ работы изменился. Мысли теперь формировались у меня медленнее; но они больше не были притупленными. Сознание, что мои музыкальные идеи вот-вот иссякнут, у меня сохранилось. Периодически мне все еще кажется, что в плане моей непродуктивности ничего не изменилось — что память буксует на прежнем ощущении опустошенности. Но факты не подтверждают этого прежнего ощущения. Что-то от своих экзистенций Тутайн мне передал; что-то от моих — я передал ему. Сегодня мне это представляется вполне очевидным. Уже завтра, возможно, мой мозг попытается это опровергнуть. Ведь непостижимо, что какая-то из моих действительностей покоится в гробу вместе с Тутайном и что какая-то его часть все еще живет со мной. Я должен сослаться, в порядке сравнения, на сильнодействующие лекарства Льена, чтобы поверить в такое чудо. Мы не знаем, как устроена Природа. Мы не знаем действительного мира.