Орлы и ангелы
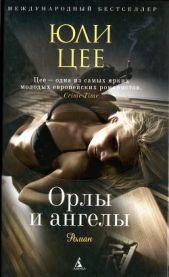
Орлы и ангелы читать книгу онлайн
Юли Цее — молодая, но уже именитая немецкая писательница. Ее первый роман «Орлы и ангелы» был удостоен Немецкой книжной премии 2001 года за лучший дебют и получил не меньше десятка других европейских наград. Сейчас Цее автор четырех романов, ее произведения переведены на тридцать пять языков.
Герой дебютного романа Цее, талантливый юрист-международник Макс, чем-то напоминающий персонажей Генриха Бёлля и Гюнтера Грасса, переживает страшное потрясение: его возлюбленная застрелилась в тот момент, когда он говорил с ней по телефону. Заглушая себя наркотиками, чтобы не сойти с ума, Макс едет в Вену, где пытается найти разгадку необъяснимого самоубийства, хотя в глубине души он уже знает ответ: к трагедии Джесси причастны «орлы и ангелы» — вершители «справедливости» в современном мире.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Вот там, внизу, говорю я, мы и сидели однажды ночью, и вдруг она втиснула мне в руку запечатанный конверт. Я видел по ней, что такое решение далось ей не без колебаний. Я вскрыл конверт — и в нем оказался маленький белый сугроб, а когда я поднес его к глазам, в микроскопических изломах заиграли искорки света.
Так не пойдет, говорит Клара. Это фантазии.
Как хочешь, отвечаю, но самой чистой воды.
А что насчет чистого листа, с которого следует начать, спрашивает.
А это, говорю, как с первой любовью, она может давным-давно закончиться, но все равно вливается в твою жизненную мелодию лейтмотивом.
Глупости, говорит Клара.
Поступив в университет, я полностью отказался от наркотиков, говорю я ей, и было это отнюдь не просто. Но когда у меня в ладони очутился «снежок», который дала мне Джесси, я почувствовал себя человеком, на протяжении долгих лет возводившим игрушечный небоскреб из спичек; в последний миг, когда работа уже завершена, последнюю спичку он держит наготове, а в груди у него колотье, а во рту — слюнки. И вот он чиркает этой спичкой и подносит ее, горящую, под фундамент, и происходит взрыв, чудесный многоступенчатый взрыв, одна серная головка вспыхивает вслед за другой, и вот уже пламя охватывает стены и поднимается по ним до самого верха. Это пламя, понял я, прекраснее всего, что есть на свете. В груди у меня было колотье, а во рту — слюнки. Джесси даже не пришлось делиться со мной своими колебаниями.
Каким же надо быть идиотом, говорит Клара, чтобы завязать, выдержать столько лет, а потом начать все сначала.
Я подумал тогда, отвечаю, что нет ничего более бессмысленного, чем спичечные небоскребы, если их не пожирает пламя.
Крайне афористично, говорит Клара, я непременно тебя процитирую. Истина, однако же, заключается в том, что твоя Джесси входила в шайку наркоторговцев и они подсаживали на наркотики других людей, чтобы те на них работали.
Как ты это изящно и безобидно сформулировала, говорю. А какую же, на твой взгляд, работу я мог выполнять для Джесси?
А это, говорит, ты мне еще расскажешь.
Когда я встаю, диктофон шлепается на скамейку. Поосторожнее, наезжает на меня Клара. Она раздражена, потому что мы говорим, а не наговариваем.
Здесь, говорю, мы с ней вечно спорили.
Перед нами амфитеатр Девятого округа, улицы здесь крутые. Подвальный этаж, окна которого оказываются у прохожих на уровне колена, может смотреть во внутренний двор, похожий на парк, трехметровой в высоту застекленной витриной. Между домами переулки идут лесенкой — все ниже и ниже. Беру Клару под локоток: ступеньки разной высоты, легко оступиться.
Вот из-за него, говорю.
Он не изменился, черный человек, грубо и примитивно напыленный на стену во всю ее высоту, руки у него подняты вверх, а лицо обозначено лишь парой лиловых глаз. Его тело книзу удлиняется, ноги, дойдя до земли, преломляются под прямым углом и продолжаются на асфальте, становясь все тоньше и тоньше и наконец сливаясь в одну линию, которая обрывается и исчезает, дойдя до люка посередине улицы.
Ну и, спрашивает она.
Что он, по-твоему, делает, спрашиваю я у нее.
Ну, это же совершенно ясно, говорит. Он убегает.
Вот именно, говорю, и как раз этого не желала признавать Джесси. Она настаивала на том, что он вырастает из люка, как джинн из бутылки.
Но у него такие испуганные глаза, говорит Клара.
Потому и испуганные, говорю. Он же попал в наш мир впервые.
Услышав музыку, сворачиваем на боковую улицу и вваливаемся в кафе «Фрейд». Последние посетители, девица в зеленом парике и старик, танцуют танго под музыку вальса. Когда Клара подходит к бару, кельнер тянется погладить ее по волосам.
Для тебя, говорит он мне, водка у нас уже кончилась.
В просвет между пивными кружками вижу себя в зеркале у стойки: небритый, мятый, черноволосый, вполне могу сойти за албанца. Мой взгляд суживается, превращаясь в ось, на которой я сейчас заверчусь, все быстрее и быстрее, как флюгер, разве что не солнечно-желтого цвета. Кельнер сойдет за ветер; кто-то хватает меня за плечо, и это как раз он. Музыка обрывается, мой взгляд теряет остроту, я слышу за спиной шаги странной парочки, они продолжают танцевать. Рядом со мной Клара, она опрокидывает стопку водки, ей здесь налили. Теперь кельнер тянется к ее шее; хуже того, окажись на ее месте Джесси, он принялся бы лапать и ее. Моя рука выстреливает, пальцы вцепляются ему в волосы, ухватить удается крепко, волосы у него, к счастью, свои. Из осторожности притормаживаю руку в последний момент, по меньшей мере пытаюсь. Кельнер ударяется лбом о край стойки. Ничего страшного, просто лоб раскровянил. В ужасе смотрит на меня, может, прозрел наконец, во всяком случае, глаза у него лиловые. Когда он, пошатнувшись, делает шаг ко мне, Жак Ширак издает угрожающий рык. Такое я слышу от него впервые. Пес еще не научился растягивать десны в грозном оскале, но этого и не требуется. Наклонясь над стойкой, забираю из батареи бутылок ту, что с водкой, и мы покидаем кафе.
Прошу прощения, говорю. Случайный срыв.
Да ладно тебе, говорит Клара.
Она польщенно улыбается. Возможно, она все-таки глупа настолько, чтобы поверить, будто я решил вступиться за НЕЕ.
Доходим до Дунайского канала, сворачиваем направо. Жак Ширак удаляется на пружинящих ногах и исчезает в зарослях на краю променада. Клара, не останавливаясь, отхлебывает из водочной бутылки, я слышу, как стучат о стеклянное горлышко ее зубы. По подбородку у нее бежит тонкая струйка, Клара не утирает ее, когда мы проходим под фонарем, кожа влажно поблескивает.
Все тебе ясно, спрашиваю.
За каналом на черной глади неба стоит полная луна: горшок взбитых сливок, лазая в который пальцами дети и взрослые оставили рытвины и ущелья. Под луной кроны деревьев, плотно притертые друг к дружке, как затылки на концерте. На лугу лежит свежескошенная и еще не сметанная в стог трава.
А что, здесь нет настоящего старого центра, спрашивает она.
Почему же, говорю, он повсюду.
А что такое Первый округ?
Не для нас он нынешней ночью, говорю. Только для продвинутых.
Это что, из-за конторы Руфуса?
Язык у нее заплетается. Я не отвечаю, а она, похоже, забывает, что задала вопрос. Под одним из мостов она останавливается.
Раньше, говорит она, я, стоя под мостом, любила вообразить, будто наверху идет дождь. А значит, нужно дождаться, пока он не кончится. Из-за этого я поздно возвращалась домой.
Свет падает под мост косо, рассекая ее лицо на две половины — светлую и темную. Хватаю ее за руки, выворачиваю их ладонями вверх. Они черны от уличной грязи, ногти тоже, я глажу ее по щеке, улыбаюсь: ты молодчина, отрезать бы тебе волосы, убавить росту, и мы бы почти приехали.
Скажи еще что-нибудь, говорю.
Раньше, говорит она, мне всегда хотелось лошадку. Чтобы родители поняли, что я смогу о ней заботиться, я повесила на балконе полотенце и каждое утро и каждый вечер гладила его, кормила и поила.
И что же, спрашиваю.
Они решили, говорит, что я так играю.
Эти истории, говорю, нравятся мне больше, чем та, с ледяной ванной.
Я была несчастным ребенком, говорит, у меня на балконе до скончания дней моих будет висеть полотенце.
Конечно, говорю, да и жить ты будешь непременно в квартире с балконом.
Она пьяна, вид у нее такой, будто она вот-вот разревется. Это Вена: город, который хватает тебя за плечо и разворачивает на сто восемьдесят градусов, чтобы ты посмотрел назад, в прошлое.
Давай-ка повернем к дому, говорю, дождь кончился.
Украдкой отбираю у нее водку и, поскольку так и не научился выкидывать то, что можно съесть или выпить, осторожно ставлю ее в изголовье бродяге, спящему на скамье в парке.
Поскольку ее ведет из стороны в сторону, держу ее под руку, молча бредем по узким переулкам, и все у нас получается, словно мы гуляем так уже долгие годы. Похоже на танец: отдельная хореография для рук и для ног, для шагов и жестов, и при этом совместное согласованное избегание припаркованных машин, перегораживающих тесные улочки, собачьего дерьма, строительных лесов, выбоин в мостовой, мусора, древесных корней, коварно вьющихся по земле растений. Главное, не разойтись в разные стороны, главное, не сбиться с ритма, главное, сохранить темп, главное, как можно теснее прижаться друг к другу. Мне приходит в голову, что все искусство танца заключается в том, чтобы, оставаясь парой, обходить лежащие на пути кучи дерьма. Наука совместного избегания.


























