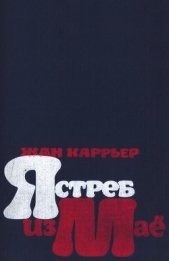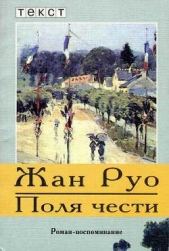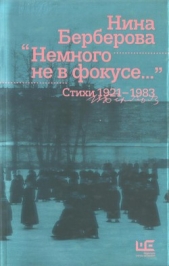Мир не в фокусе
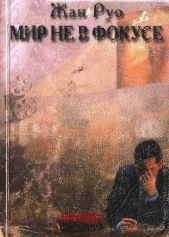
Мир не в фокусе читать книгу онлайн
«Мир не в фокусе» второй после «Полей чести» роман Жана Руо, изданный на русском языке. Роман необычен как по своему сюжетному построению, так и по стилю изложения. Автор мастерски описывает внешнюю сторону жизни, ее предметность, в совершенстве овладев искусством детали, особенно в картинах природы. Автор не боится открыть свой внутренний мир, тайники своей души, он глубоко психологичен; тонкая ирония и даже насмешка над собой переплетаются с трагичностью. Трагедия любви и одиночества, жизни и смерти, трагедия самого человеческого существования — фейерверк чувств пронизывает все произведение, заставляя читателя глубоко сопереживать. Удивительна поэтичность и даже музыкальность прозы Жана Руо. Роман-поэма, роман-симфония, уникальный и великолепный образчик экзистенциального романа — вот далеко неполная характеристика этого блестящего произведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Приторочив черный футляр со скрипкой к багажнику моего Солекса, зажав спортивную сумку коленями, а ступнями упираясь в подножку, я постоянно сверялся с планом бабушкиной фермы, скотчем приклеенным к рулю, с трудом сохраняя вертикальное положение, потому что дорога была мокрая и приходилось опасаться заносов, к тому же пробуксовывало сцепление, и я жал изо всех сил на педали и поджимал передающий ролик отходящим от цилиндра рычагом с черным бакелитовым набалдашником. Стоило отпустить его, как мотор начинал крутиться вхолостую и ревел, я балансировал на месте, и это неустойчивое равновесие — с центром тяжести высоко над землей — грозило неприятностями.
Все это не мешало мне горланить песни, как повелось всякий раз, когда я садился на свой мотовелосипед, и размышлять вслух, поверяя воздушной стихии свои самые сокровенные мысли и тайные страдания и даже позволяя себе обругать сунувшегося под колеса пешехода или велосипедиста, который ехал мне наперерез; я успокаивал себя тем, что свист ветра и треск мотора перекрывают мои несдержанные речи и был уверен в своей безнаказанности. Как бы не так. Я понял, как заблуждался, довольно скоро — когда обругал безмозглым деревенщиной крестьянина, который выходил из ворот своей фермы, толкая перед собой тачку с навозом, куда я неминуемо свалился бы, если бы не вывернул руль, смело влетев к нему во двор, после чего, обогнув колодец и лавируя между курами, выскочил на улицу и, нажимая изо всех сил на педали, промчался мимо потрясающего кулаками хозяина.
Отъехав от него на безопасное расстояние, я снова продолжил монолог одинокого путника, распевая слова своего экспромта на подходящий к случаю мотив: «Тео, Тео, это славно / обняла, что было сил / а на утро, вот ведь странно: / нет ее — и след простыл…» или еще: «Все хорошо, такие вот дела…» или даже: «А нам все равно…». Потому как, если взять хотя бы историю нашего приятельства с Пронырой, — с ним я только что расстался на площади посреди деревни, он клялся и божился, что мы с ним теперь друзья до гроба, — то тут, как посмотреть: можно увидеть в ней дружескую улыбку судьбы, хотя эта улыбка и стала навязчивой с некоторых пор, а можно и впасть в отчаяние, но туман, сопровождающий меня повсюду, мир не в фокусе — расплывающийся мир, в котором я жил с того времени, как началась в нашем доме череда смертей и я забросил свои очки, не давал во всем этом разобраться. И тогда, призывая небеса в свидетели своих несчастий, я набрасывался на заблудившуюся в сумерках бледную луну: «Зажги-ка поярче свой фонарь и освети мне путь, а не то я нашлю на тебя большое черное солнце, рядом с которым твое грустное, как у Пьеро, лицо станет еще белее, а звезды превратятся в короткие вспышки огнива, в карликовых светлячков, потому что моя звезда освещает эмпирей моих бурных страстей, разгоняет тьму, расцвечивает зимние ночи, растапливает ледяную пустыню наших сердец, ибо мир — зажатый между двумя полюсами шарик сливочного мороженного, не разрушительный огонь, а белый чертик, знаток по части смерти под сурдинку, который и нас утащит на свои кулички, и потому, бесцветное Светило, лупоглазая лорнетка, груда холодного камня, остывшая сковорода, я назову тебе имя той, что низведет тебя до уровня бесплодного яичного желтка и обратит Млечный Путь в реки молок, чтобы рассыпать семена своей богоданной, живительной, Тео-творящей красоты по всей Вселенной. Посторонитесь, ночные созданья, отойдите в сторону, приготовьтесь к встрече с великим чудом: родилась новая звезда — ослепительней Веги, прекрасней Кассиопеи, ярче Альтаира: Gloria in excelsis Theo», — и я покидал свой потаённый планетарий лишь тогда, когда останавливался перед дорожным знаком или утыкался носом в эмалевую стрелку с белыми буквами, указывающую в сторону обозначенных мест.
И только освоившись с топонимией здешних мест (познакомившись с Черной Изгородью, Дьявольской Канавкой и прочими «приглашениями к путешествию»), проплутав добрый час и основательно исследовав все проселочные дороги в окрестностях Логрее, — а некоторые и по несколько раз — я выехал нежданно-негаданно к ферме бабушки с ее эротической могилкой, убеждаясь все больше в том, что эта самая бабушка в этой истории всем бочкам затычка. Описание, которое дал мне ее благочестивый наследник, не оставляло никаких сомнений: на почтовом ящике, прибитом к столбу у поворота на ферму, значилось «Парадокс» и «Экивок». Судя по всему, надпись предназначалась для почтальона и должна была представлять родовые имена Жифа и его последней подружки, впрочем, оставалось неясным, кто есть кто, хотя оба, конечно же, принадлежали к семейству Двусмысленностей.
Дом с пристроенным к нему хлевом стоял прямо на земле; такие встречаются тысячами в сельской местности к северу от Луары. Шиферная крыша с продольной балкой, два окна, прорубленные по обе стороны от двери, которая состояла из двух расположенных одна над другой створок — так что можно было закрыть одну нижнюю часть двери, чтобы скотина не забиралась на кухню. Жиф явно преувеличивал, когда говорил об идиллии здешних мест, близости к земле и возвращении к своим корням, в общем, словами всего не передашь, — добавлял он. Еще не заходя в дом, я мог описать низкий потолок, почерневшие от копоти выступающие балки, глинобитный пол, кухонную плиту, которую топили углем, покрытый клеенкой стол — ее края спускались на колени тем, кто сидел на расставленных вокруг стола скамьях. И это вовсе не требовало от меня глубокого знания местных обычаев и устройства жилища, просто когда-то давно мы брали молоко на такой же ферме, и однажды мы, дети, ходили смотреть, как доят корову (старший сын фермера, пользуясь тем, что его никто не видит, дергал корову за сосок, посылая через весь коровник мощную струю молока и тем самым устанавливая новый рекорд), тогда мы переняли многое из того, о чем раньше и не догадывались (например, что можно перевернуть тарелку вверх дном, после чего продолжить обед как ни в чем не бывало), а на обратном пути мы решили, не откладывая, проверить действие центробежной силы (и принцип движения планет), вращая на вытянутой руке бидон и не выплеснув при этом ни капли молока, — правда, на сей раз нам пришлось вернуться за вторым бидоном.
Бабушка Жифа несколько улучшила внутреннее убранство дома, покрыв земляной пол слоем цемента, но в основном все оставалось по-старому (а именно: на камине — дорожка, обшитая миткалевой бейкой в мелкую бело-красную клетку; очень характерный конусообразный, почти плоский матового стекла абажур с прозрачными волнистыми краями и начиненным свинцовой дробью керамическим противовесом в форме груши, с помощью которого можно было регулировать высоту), присутствие же нового хозяина проявлялось в сногсшибательном беспорядке, который только черт, сломавший себе ногу, и мог наворотить.
Жиф и сам все прекрасно понимал и потому просил не обращать ни на что внимания. Но не заметить всего этого можно было, разве что закрыв глаза и, может быть, зажав нос: в раковине уже много дней валялась немытая посуда, старинная плита сохраняла многовековой культурный слой, на столе были расставлены оставшиеся после завтрака кружки, а рядом, на конспектах, стояла кошачья миска, на стенах висели тряпки, расписанные в стиле экспрессионистов (когда я решился спросить у Жифа, каков символический смысл цветка чертополоха, прикрытого сверху летающей тарелкой, мне тут же пришлось раскаяться в том, что я не сразу признал товарища Че и его знаменитый берет), в углу стояла метла в обличье марионетки, а в кожаном кресле, явно продавленном, судя по тому, как глубоко проваливались садившиеся в него, спал на коленях у Двусмысленности (то ли Парадокса, то ли Экивока) кот, но до чего же была хороша эта блондинка с чистым, прозрачным лицом в обрамлении длинных тонких волос, и я снова мучился вопросом: как это Жифу в таких-то очках удавалось соблазнять таких вот красоток?
Жиф пригласил вместе со мной друга гитариста, с ним я должен был создать даже не столько музыку, — что за нелепая мысль, — сколько некую атмосферу, он же и оповестил о своем приезде громким металлическим скрежетом. В первых же словах, которые он произнес, войдя в дом, звучала тревога за хозяина Солекса, поставившего свой велосипед во дворе очень неудачно, а он обнаружил его слишком поздно, впрочем, не стоит беспокоиться, повреждений, по крайней мере с виду, нет. Я представился как тот самый обеспокоенный — несмотря ни на что — хозяин и (установив связь между грохотом железа и моим велосипедом) бросился во двор. Оставленная у сарая колымага с оторванным крылом, более или менее удачно покрашенная (причем оценка ваша зависела оттого, находили ли вы в ее раскраске следы техники дриппинга или же представляли, что свой нынешний вид она приобрела, простояв долгое время под лесами, на которых работали маляры), вызывала еще большую жалость, чем мой Солекс, однако, когда я поставил велосипед на подпорку, мне все же пришлось выправлять руль, зажав переднее колесо между ног, что плохо отразилось на состоянии моих брюк, так что теперь, вернувшись на кухню, я испытывал смешанные чувства по отношению к вновь прибывшему. Тем более что, пытаясь перетянуть музыкальное одеяло на себя, он начал, не дожидаясь моего возвращения. Склонившись над гитарой, он выводил заунывную песнь собственного сочинения: «mama, mama, can I have a banana», — бесконечно повторяя, круг за кругом, один и тот же куплет; когда же мы попросили его перейти к следующему, он объяснил нам, что придерживается индийского принципа «рага», к которому примешиваются и иные, в частности, африканские влияния доколумбова периода (а это все равно, что сказать «Америка до открытия Берингова пролива»), а также фольклорно-этнографические мотивы (например, логреенская версия «Девушек из Камаре», записанная им в исполнении своего дедушки). Лично я усматривал в его игре систему «трень-брень»: «mama, mama (трень), can I have a banana (брень)». Но моя музыкальная культура была далека от уровня моего нового друга, и я не без гордости узнал, что, сидя в своем углу, навожу мосты между Востоком и Западом; попутно он попросил меня помочь ему, так как собрался наконец дополнить свой текст (Жиф, должно быть, рассказал ему о моем Жане-Артюре), и я предложил ему: почему бы и не «can I have шпикачки или эскимо, или горгондзола» (и что угодно еще, если не сыр и не сладости). Но он сказал, что мама против, и мы прошли в соседнюю комнату, чтобы присутствовать на просмотре «Гробницы моей бабушки».