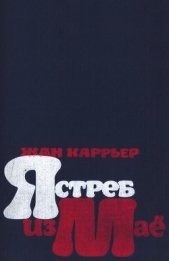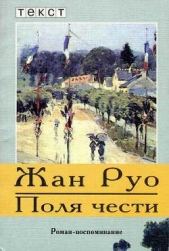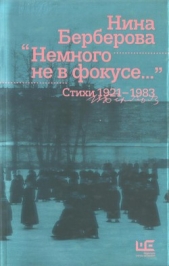Мир не в фокусе
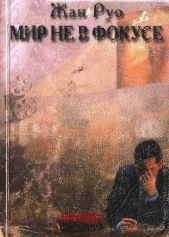
Мир не в фокусе читать книгу онлайн
«Мир не в фокусе» второй после «Полей чести» роман Жана Руо, изданный на русском языке. Роман необычен как по своему сюжетному построению, так и по стилю изложения. Автор мастерски описывает внешнюю сторону жизни, ее предметность, в совершенстве овладев искусством детали, особенно в картинах природы. Автор не боится открыть свой внутренний мир, тайники своей души, он глубоко психологичен; тонкая ирония и даже насмешка над собой переплетаются с трагичностью. Трагедия любви и одиночества, жизни и смерти, трагедия самого человеческого существования — фейерверк чувств пронизывает все произведение, заставляя читателя глубоко сопереживать. Удивительна поэтичность и даже музыкальность прозы Жана Руо. Роман-поэма, роман-симфония, уникальный и великолепный образчик экзистенциального романа — вот далеко неполная характеристика этого блестящего произведения.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
К тому же, она решила больше с ним не встречаться, со своим, так называемым, сердечным дружком, на это есть тысяча и еще одна причина: «Он проявил себя так нехорошо по отношению к тебе». — «Неужели?» Впрочем, я не особенно удивлен, однако немедленно поздравил себя с тем, что покрывало его отправилось в химчистку. И все же я не хотел бы стать причиной вашего разрыва; поверь, его оскорбления мне совершенно безразличны, я даже не могу ни одного вспомнить. Конечно же, все уладится, и вот, когда я уже предлагал себя в качестве посредника, Тео поставила кружку на столик и пристально посмотрела на меня прекрасными, грустными, блестевшими от слез глазами. О Боже, что я еще сказал такого, чего не следовало?
Так, потихоньку, одно за другим, с пятого на десятое, всхлипывая, она мне все рассказала. Трагедия ребенка, иногда такое случается и об этом стараются напрочь забыть, окунувшись с головой в ничтожные, но упорядоченные дела, без особых последствий, насильно вытеснить воспоминания, но они выныривают, ранят, режут по живому, искажая все, на всем оставляя отпечаток безнадежности, настолько все это памятно, — невыносимая драма, оставившая и в душе, и в плоти невещественный след, куда более ощутимый, чем открытая рана. И хотя ни ран, ни шишек, по-видимому, уже нет и в помине, как нет и ничего, что не давало бы жить, все равно что-то притаилось, какой-то осадок, и вот опять ухитряется все искорежить. А ты, подбирающий осколки разбитой памяти, острые, как стекло, больше не можешь быть безучастным наблюдателем — тихим и неподвижным, не имеющим ни сил, ни воли замолвить утешительное слово или хоть как-то еще проявить свое сострадание, и все слова, понятия, дела сдвинулись с привычных мест, а сам ты превращаешься в сейсмограф, фиксирующий подземные толчки чужого горя, в писца, регистрирующего чей-то плач, ты весь — само внимание, но остаешься только свидетелем страданий, смирившимся с тем, что не можешь их разделить. Обещаю, Тео, я никому ничего не скажу. Это твое сокровенное, твоя боль. Никого это больше не касается.
Настала ночь, золотистый свет фонаря залил всю комнату, и на паркете распласталась тень от оконного переплета. Тео, закончив свою исповедь, реже стала всхлипывать, наконец встала, чтобы задернуть занавеску с растительным орнаментом, висевшую на латунном карнизе и не слишком перекрывавшую доступ свету, отодвигавшему все-таки ночные страхи на некоторое расстояние в этой относительной полутьме. Вернувшись, она растянулась на постели, оперлась локтем на подушку, опустив голову на руку, а другой рукой притянула меня к себе, и мы улеглись лицом к лицу, глаза в глаза.
В сумеречном свете, сочившемся сквозь занавески, я видел, как блестят глаза Тео, ее прекрасные, растерянные, почти молящие глаза, и мне казалось, что она готова броситься на шею первому встречному, если он пообещает облегчить ее страдания. Какое искушение стать тем самым доктором Айболитом, который может излечить от сердечной золотухи, а губы ее оказались так близко, что это и впрямь походило на игру в доктора, которая годилась даже для застенчивого неумехи: преодолеть несколько сантиметров, которые нас разделяли. Но едва я прикоснулся к ее губам, как она резко отстранилась, даже слегка отодвинулась, чтобы сказать еще кое-что; она хотела, чтобы все было совершенно ясно и я бы знал, чего мне следует ожидать, между нами не должно быть ни малейшего облачка.
А я-то думал, что после первого откровения самое тяжелое позади, что теперь мне все нипочем: говори, я слушаю все так же внимательно, все с таким же интересом, — и правда, слушая ее, я чувствовал, что ей надо как-то определиться: смерть отца потрясла ее так, что она официально обручилась с человеком, намного ее старше, но вскоре порвала с ним, а дальше пошла целая череда приключений, в том числе и с женщинами, поэтому чувствовала она себя немного растерянной, — и я понимал, что она пыталась объяснить, как ей трудно найти мне местечко посреди этой несусветно сложной галактики. Все это свидетельствовало о ее необычайной честности, даже если я считал, что мои жизненные обстоятельства в масштабе всей планеты выглядят куда как благоприятнее. Однако, зная, насколько небо переменчиво, и опасаясь, как бы мне не прождать сто семь лет, пока опять не объявится моя прекрасная комета, я спросил самого себя, так ли это действительно лестно, что я для нее совершенно не похож на всех остальных, ведь сам-то я ничего не хочу, кроме как походить на тех, кто держал ее в своих объятиях.
И, злоупотребляя своей ролью конфидента, от всего сердца желая разделить участь нормальных людей, я осмелился просунуть руку под ее черный свитер, который она надевала прямо на голое тело, и осторожно, кончиками пальцев, скользнул вверх по спине до застежки лифчика. И это уже многое говорило о Тео, поведение которой лишь невнимательные наблюдатели могли объяснить сексуальной революцией (я, судя по всему, пропустил ее начало), ведь по манере одеваться Тео совсем не вписывалась в рамки этой самой революции, впрочем, отнюдь не строгие. Так что красавица держала свою планку. Это открытие меня успокоило, и я почувствовал, что вполне готов услышать последнее признание. Видимо, не все еще было сказано (губы снова от меня отодвинулись, и я уже стал немного уставать оттого, что меня все время прерывают). Да, Тео? Нет, на сей раз ей слишком стыдно. Ну ладно, говори же, разве есть еще что-то такое, чего я теперь не мог бы понять? Мы вместе перелистали самые сокровенные, самые интимные страницы дневника ее душевных ран — какая кода, какие объяснения могли сказать больше, чем грустный свет, лившийся из ее глаз? Все остальное второстепенно, быть может, стыдно, но из ряда обычных несуразностей жизни.
Но когда я ощутил под своими пальцами ее кожу, моя способность к сопереживанию заметно поколебалась, и я даже стал проявлять некоторые признаки нетерпения. Хорошо, расскажи мне все, Тео, и не будем больше об этом, хватит уже так жестоко лишать меня твоих губ. Она запнулась, на мгновение задумалась: нет, и впрямь, не надо, не настаивай. Я попытался настроить ее на рассказ, как это делал раньше. Что-то тяжелое? Она от этого, должно быть, еще не оправилась? Возможны какие-то последствия? Нет-нет… что я там себе вообразил? К тому же, она сожалеет, что понапрасну затеяла этот разговор, и потом нечего тут особенно раздувать, в конце концов это ее личное дело. Я ни о чем и не спрашивал, как хочешь, Тео. И, когда мы снова принялись за любовную игру, в голову мне стали приходить самые дурные предположения из каталога проступков, в которых признаться невозможно: переспала с профессором, чтобы узнать экзаменационные вопросы? занималась проституцией? была замужем за банкиром? скомпрометировала себя с судьей? завербовалась в полицию? — но разберемся в этом позже, потому что Тео, задрав руки, стаскивала с себя свитер, и в темноте внезапно вспыхнули два белых пятна ее лифчика, и уже ни о чем другом, как вы понимаете, думать я не мог.
Следующий день начинается с упреков. Не за то, что произошло, за это можно лишь воздать благодаренье Тео, небу и целому свету, но за то, что по-хамски себя вел. Не с девушкой, конечно, — здесь мы (ох уж, это целомудренное «мы» царственных особ) сначала грешили, скорее, излишней деликатностью, а потом не сумели во всей полноте насладиться каждым мгновением, ничего не упустить, все оценить по достоинству. Взять хотя бы лифчик, эту двойную подставку для шедевра плоти: смыкая пышные груди, он будто прорезает между ними глубокую, похожую на воронку складку, куда обрушивается, как в черную дыру твой взгляд, и свет, и желание; а тонкие бретельки, пересекающие ключицы… Как, если вдуматься, все это быстро промелькнуло. Зачем надо было так набрасываться на застежку, пытаясь во что бы то ни стало, пусть и боязливо, расстегнуть ее и триумфально, хотя и смиренно, одним движением все стянуть, вместо того чтобы, не спеша, наблюдать, как расцветают, высвобождаются из тенет ее груди, выпрастываются медлительно и тяжело — едва застежка поддалась, коричневый венчик соска наполовину показывается над кружевом, словно ночное солнце появляется над белой дымкой, бретельки медленно соскальзывают, а плечи, кажется, хотят стать меньше малого, сложиться, словно стараются проскользнуть в узкий проход, и наконец гибким движением опытного иллюзиониста выламываются из своей атласной колодки, на мгновенье сжав ложбинку меж грудей, и одна за другой высвобождаются руки; но прежде чем сложить ладони лодочкой, чтобы принять в них две схожих, как водяные капельки, жемчужины, чего мне стоило хотя бы мельком посмотреть на лифчик, который уже лежит на полу, напоминая покинутый кокон, сброшенный крыльями бабочки, еще недавно укрывавший все, что явлено теперь. И это один-единственный пример. Вообразите себе остальное.