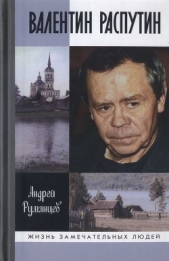Повести и рассказы
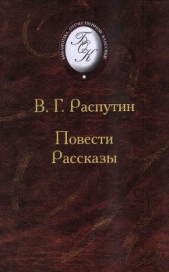
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Агафьина изба встречала и провожала зимы и лета, прокалялась под жгучей низовкой с севера стужею, стонала и обмирала до бездыханности и опять отеплялась солнышком. Заходили в ограду люди — изба стояла как на пупке, и видно от нее было на все четыре стороны света. Особенно хорошо был виден разлив воды в понизовьях — могучий, широко раздвинувший берега и какой-то захлебисто мерклый, без игры и радости. Тут, в Агафьиной ограде, было над чем подумать, отсюда могло показаться, что изнашивается весь мир — таким он смотрелся усталым, такой вытершейся была даже и радость его. Здесь можно было и вволюшку повздыхать и столько здесь скопилось невыразимых воздыханий, что тучки на небе задерживались над этим местом и полнились ими, унося с собою жатву людских сердец.
Если же кто из приходящих заглядывал в избу, то замечал, что изба прибрана, догляд за ней есть. Обугленный после пожара возле печки пол и закопченные стены обтерлись, точно в особую красу, в печальный цвет, гарь как будто даже поскоблена, головешки и хлам от постояльцев вынесены, печка ничуть не пострадала, окна, как у всякого живого существа, смотрят изнутри. Дышится не вязко и не горкло, воздух не затвердел в сплошную, повторяющую контуры избы, фигуру. И в остатках этой жизни, в конечном ее убожестве явственно дремлют и, кажется, отзовутся, если окликнуть, такое упорство, такая выносливость, встроенные здесь изначально, что нет им никакой меры.
НА РОДИНЕ
(1999)
Рассказ-быль
Я сплю в кладовке, рядом с сенцами, для освежения сна, и утром просыпаюсь от заунывного плачущего голоса, выводящего непрерывный стон: «Ой-е-е-е-ей! Че ж это деется-то? Ой-е-е-е-ей!» Пора подыматься, это идет по переулку старуха Лапчиха, напротив моей избы приостанавливается отдохнуть и, чтобы обратить на себя внимание, наддает голосу. Кричат спозаранку коровы, лают собаки, громко перекликаются люди — я сплю, меня эти звуки даже подбаюкивают в последнем сладком сне. Но вот как пилой по сердцу причитания Лапчихи, острые, рвущие тело, — и побудка неизбежна: доброе утро, Лапчиха, доброе утро! Поднимаюсь, громко бренчу умывальником, чтобы Лапчиха слышала мои движения, разжигаю здесь же, в ограде, железную печку с вставленной, как в самовар, короткой трубой и с наготовленной еще с вечера растопкой, ставлю чайник и выхожу за ворота. Лапчиха к той поре продолжает свое продвижение по переулку в гору, плач ее, стесненный тяжестью и шагом, переходит в прерывистый отчаянный клекот. Я гляжу ей вслед и каждый раз вижу одно и то же: точно короткое коромысло на низких ходульных ножках попеременными толчками выкланивается вперед. На одном плече коромысла, склонившемся под тяжестью вправо, ведерный бидон, на другом посудинка полегче — это Лапчиха тянет за руку малолетнюю девчонку-правнучонку.
Идти ей от берега до своего двора на Верхней улице километра полтора.
Три недели неподвижной давящей наволокой лежит зной — ни тучки, ни ветерка, небо белесое, дряблое, воздух кипит в мареве и пахнет дымом. Свежесть, сила, настой из него выпарены, воздух-обрат. Широкий разлив стоячей воды под поселком даже и глаза не обманывает прохладой. Не дает ее и лес, приникший, тускло-зеленистый, вылинявший. Огородам нужен полив, сейчас бы грядкам только пить и пить, а где его взять, полив, если, вспучив Ангару, как в наказание за самовольство, оказались без воды. Качали ее из скважины электричеством — не стало электричества, золотой сделалась солярка; возили ее из разлива-водохранилища водовозкой — остановилась без горючего водовозка, а потом и вовсе пришла в негодность. А на руках таскать — попробуй-ка на верхние, дальние от берега, улицы натаскать? На питье, на норму для скотины еще как-нибудь, а на огород никаких рук не хватит. Пожухла картофельная ботва, нет налива огурцам, не к солнцу тянет, а в землю обратно клонит листочки капуста. В каждом дворе под стоками с крыш — ведра, тазы, ванны, даже кастрюли, чтобы ни одной дождинки не упало мимо, но и дождь отменили. Перед ночью в сумерках немо играют за Ангарой, за оббитым горизонтом, зарницы; я наблюдаю за ними по часу и больше, сидя на чурке возле печки: с двух сторон, напрыгивая, они бьют и бьют в какую-то преграду меж ними… во вспышках она кажется покатой каменной горой… делают разбеги все длинней, все отчаянней, но перемахнуть через преграду и высечь гром не могут. Изнемогают они, изнемогаю в напрасном ожидании и я и иду укладываться на свою узкую лежанку в кладовку у правой стены. Закрываю глаза, но зарницы дразнят меня и с закрытыми глазами, под их беззвучную и холостую игру я наконец засыпаю.
Иногда, раз или два в неделю, в поселке начинается переполох, вызванный гудением машины. К ней устремляются так же, как семьдесят лет назад устремлялись в деревне к первому трактору. Это значит, что кто-то где-то в частном порядке разжился горючим — может, старую канистру разгреб, может, с проходящего катера с ведро принес. Кузов машины заставлен бочками и бачками, гремящими и подпрыгивающими, устраивающими буйный тарарам. Машине надо прорваться к берегу, и она набирает скорость. Но еще быстрее, еще отчаянней вырываются из калиток мужики, на бегу опрокидывают стоящие у палисадников бочки, ржавеющие в ожидании водовозки, и с грохотом пускают их на дорогу, заставляя машину тормозить. «Некуда, некуда!» — кричат из пыльного облака, накрывшего машину, но место находится, бочки устанавливаются в два яруса, на них повисают гирляндами, и машина рвется дальше.
Мне с моим пустодворьем, где ни скотинки, ни грядки, одна приблудшая кошка, много воды не надо. Схожу с двумя ведрами утром, попив чаю, после того как оплачет и свою долю, и долю поселка старуха Лапчиха. Одно ведро переливаю потом ей в бидон, когда спускается она во второй раз, остатки доливаю в маленький пластмассовый бидончик правнучки и уж совсем последними остатками заставляю Лапчиху умыть девчонку. Лапчихе жалко переводить воду на пустое дело, она пьет впрок прямо из ведра и уж после мокрой нераспрямляющейся ладонью царапает девчонке лицо. Та взревывает, вслед за нею взревывает Лапчиха, и они, не умолкая во всю дорогу, утягиваются опять в гору. То, что приносит с берега Лапчиха сама, для питья не годится. Доброй воды ей не набрать: узкие, в одну доску, мостки уходят далеко, на них шатко и скользко, в прогибах надо брести на ощупь. А под берегом в бестечье такая мешанина из живого и неживого, что хоть кашу вари.
Вечером, когда зной чуть легчает, я иду за водой со вторыми двумя ведрами. Но хожу долго, у того похода длинный крюк, а вода набирается на обратном пути, в зыбких сумерках самых продолжительных дней. Вдоль берега я иду вправо, ступая по оголившемуся плитняку. Вода от засухи и от сбросов на гидростанции спала метров на пятьдесят, плиты в тинистом песке, показывая пластинчатые сколы, белеют в правильных рядах разно-форменными знаками какого-то древнего письма. За старым урезом воды, где извилистая волна щепы, как только поселок остается позади, густой зеленью чернеет молодой ельник. В нем, застывшие, глядя на воду и едва шевеля жвачку, стоят коровы. Тишина; рядом с поселком — и ни звука. Я оглядываюсь и на минуту теряюсь: где я, что это такое? Словно все застыло, все заснуло в глубоком и нелепом колдовском заговоре. Окажись сейчас в поселке посреди этого оцепенения — и встретишь на улице мужика или бабу с неловко задранной для шага, но так и не опущенной ногой.
Нет, что-то размеренно тикает. Я оборачиваюсь назад, откуда пришел, и всматриваюсь в берег. Не там. А во-он далеко в море на мертвой глади воды черная точка, из которой вполне может получиться лодка, не знающая еще, что на этой стороне все застыло, и из каких-то прежних времен пробирающаяся сюда старым способом — на лопашнах. Это так: оба весла по бортам слева и справа, сбросив загреб, переносятся в уключинах вперед, опускаются в воду и рывком снова ее загребают, толчком подавая лодку по ходу. Слышно даже, как скрипят уключины. Так было в моем детстве. Это, должно быть, оттуда, из детства, кто-то гребется ко мне через море с вопросами, на которые мне сейчас не ответить. На многое сейчас не ответить, отменились ответы. Но это лодка, сомнений нет. И никаких сомнений, что это весельная лодка, не виданная здесь уже лет тридцать. Это она на возвратном пути. Кто-то плавал смотреть покосы, больше там, на том берегу, делать сейчас нечего. Худенькие нынче покосы, не поднялась трава. Но сколько же это надо, чтобы перегрести через сегодняшнюю Ангару, сколько с размеренностью секундных протяжек шлепать веслам? Два часа, три? Сколько мозолей набить на ладонях, с которых давно сошли бугорки от весел? Рождались с этими бугорками, за одноручное весло садились, за шест вставали сызмальства — как будто тут и были. Теперь, значит, заново.