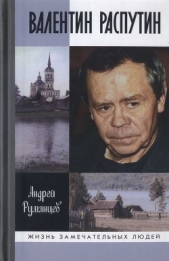Повести и рассказы
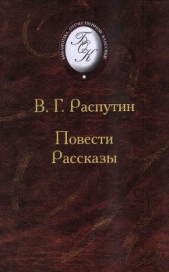
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Потом оказалось, что и почки больны. Лечил почки, но уже не у дальних врачей — надоели ему поездки. Прошел через операцию и согнулся еще больше. То же самое: гараж — лесосека, гараж — лесосека. На пенсию уходил с лесосеки и горд был, что не поддался, выдержал и характер, и изношенное свое тело. Уходя «на покой», выкупил старый трактор, тогда это уже возможно было, уже засветились новые времена своим сияющим блеском, — выкупил старый «Беларусь», битый-перебитый, ломаный-переломанный, и этим похожий на него же, на Демьяна. Провозился с ним месяца два и на беду себе довел до полного хода.
Случилось вот что. Сам ли Демьян оставил «Беларусь» на скорости, или кто-то из ребятишек забирался в кабину и дергал рычаги… Был Демьян на земле под трактором, и вдруг рванулся «Беларусь» и пошел на него. Накатил, огромным колесом прошелся поперек ниже живота, раздавил ногу, потом мочевой пузырь. Истошно закричала Галя. Вытащили Демьяна без памяти и без памяти же увезли.
Я был у него в больнице после первой операции, накануне второй. И уходил от него, поговорив и с профессором, и с лечащим врачом, с болью: не жилец. Домой его увезли потом с тем же приговором. Едва-едва копошился по двору, изредка выходил, короткими подвижками на костылях переставляя ноги, в улицу, и никто не сомневался: прощаться выходит. Но какой-то сверхпрочный «диамид» сидел в нем — встал Демьян. Пропустил один сенокос, а на второе лето уже тащил на плече к берегу четырехпудовый лодочный мотор. Я догнал его: «Ты что делаешь, мужик?» — «А иду, — не без хвастовства отвечал, неловко задирая от мотора голову, выкручивая морщинистую трубчатую шею. — Не мешай, а то упаду. Я без груза плохо хожу».
Я бы этот «диамид» провел через палату мер и весов, сделал его единицей человеческой цепкости, живучести. В одном и десятой доли «диамида» нет, а в другом два или три разом. А то и десять.
…Я отрываюсь от окна, в котором проводил вниз к воде согнутого под мотором мужика. Проводил на гребь в Шайдорово, в одну из не существующих ныне деревень, редкой цепочкой стоявших по Ангаре. Но и в памяти моей цепочка уже прервалась, в одном месте «узлы», как этот поселок, собравший в себя шесть деревень, в другом обрывы. Но в память настойчивее стучатся те, несуществующие… В Шайдорове у Демьяна был покос, стояла зимовейка, и как сладко было там после метки, всегда поспешной, чтобы, если нет даже тучек в небе, сено не «отошло», не потеряло хруста, и всегда потной, до соли на спине, — как хорошо было там в сплошной уже тени под мачтовыми соснами жадно пить чай и вполголоса ни о чем разговаривать.
Отрываюсь и от этого видения… надо сходить к воде. А потом, притерпевшись к бездыханности, изловчившись и ею дышать, пойду-ка я подальше на елань. Пойду-ка я на елань да забьюсь в ельник, во мхи. Береза в огороде обвисла, плотный воздух, куда ни глянь, курится. Забьюсь во мхи… люди уходят на кладбище, а прошлая жизнь этих людей, картина к картине изо дня в день в каких-то прозрачных нетленных рамах… им уходить, кроме как во мхи, некуда. Наберусь-ка я этих картин побольше, пропитаюсь ими, надышусь, подстелю их себе под глаза…
* * *
Ночью меня будят тревожные скребущие звуки — точно кто-то по натянутому полотну подцарапывается и принимается тянуть полотно на себя. Я прислушиваюсь: то чудится, то не чудится. Поднимаюсь, выхожу на крыльцо, с крыльца заглядываю на крышу кладовки, закрытую толью. Она маслянисто темнеет. В небе редкие игольные протыки дальних звезд. И над водой мелкий бегущий стрекот… разбежится приглушенным стукотком швейной машинки и запнется, задохнется в толще, с протяжным вздохом отступает обратно. Снова разбег, снова захлебистое напряжение, мало-помалу отодвигающее ватную преграду. И все небо в шуршании — в мягком, сыпучем… Я находился за день, нагулялся до изнеможения, наслушался безмолвия — вот и блазнится, пустое выходит из меня, задевая какую-то чувствительную мембрану. А что еще может быть? Я возвращаюсь и засыпаю.
Днем глухими ударами-качками бьет сразу с двух сторон — из-за Ангары и по-над горой. Солнце слабое, маленькое, мерклое, в разлохмаченном ободке. И будто не гром, будто что-то там с шорканьем двигают, переставляют. Отдохнут и опять по краям горизонтов, горного и речного, принимаются двигать. Море — вода в трепете, в мелких блестках, воздух тяжелый, липкий.
Огородом идет ко мне Нина, задирая голову и прислушиваясь, на ее круглом лице я вижу волнение, когда она садится на завалинку.
— Валентин, будет дождь?
Больно уж долгие там, в небе, приготовления — как бы не впустую? Но мне не хочется огорчать Нину, я говорю:
— Будет. Может, сегодня еще покапризит… — за месяц я привыкаю здесь к усеченным формам и без нарочитости говорю «покапризит»… — а уж потом да-аждь!..
Она смотрит, не шучу ли я…
Вслед за Ниной тем же путем приходит Роман — заспанный, в майке, босиком.
— Че, поди, небо обсуждаете? — закуривая, говорит он и принимается по обыкновению при мне подшучивать над женой. — Ты, Нина, к небу не касайся, там свои порядки…
Он не успевает договорить, — близко над головами вдруг взрывается от страшного удара, вспарывается пополам, обрушивает страшный грохот. Гремит у меня в сенцах, гремит на улице за домом… Нина в ужасе вскакивает и кричит.
— Вот где надо было! — кричит и Роман, приподнимаясь и оседая. — Здесь надо было! Нашел! Да по краям! Давай-давай!
Испуг вышибает у Нины слезы, она не может сдержать их и под раскаты отходящего грома, всхлипывая, кричит в небо — не кричать невозможно:
— Неделю бы позадь тебе! Неделю! Ищо бы не поздно!
— Ниче-о! — говорит Роман на полукрике. — Ты не пужай его. Ты его напужашь — он сбежит в другую деревню. Ты потраву большую народу сотворишь.
— Ты че, дурак, мелешь-то? — У Нины и из улыбки сочатся слезы. — Перестань молоть.
И снова грохот, снова землю приподымает и бросает обратно. Романа подбрасывает с завалинки, и он, задрав голову, не глядя на меня, кричит:
— Вот, Валентин, как надо! Вот как надо! Видал?!
Гулко стучат о деревянные мостки рядом с крыльцом первые, тяжелые, важные капли. Роман с Ниной срываются и убегают к себе. Вот и «покапризит»! А ведь не было туч — за минуты взбил их гром. Я стою под дождем, унимая волнение и страх, и дышу, дышу… Огромные кручи ходят над моей головой, навиваются в темную пучину, под гулким окриком торопливо принимаются перестраиваться, сшибаясь, распуская лохматые хвосты, воздвигая что-то, какие-то свои могучие грады…
В НЕПОГОДУ
(2004)
Я приехал в санаторий в конце марта. Снег уже почти вытаял, оставаясь грязными и сморщенными лафтаками только в низких и затененных местах, да кругами лежал он под могучими кедрами, сквозь которые мартовскому солнцу еще не пробиться. Поселили меня в «заячий домик», названный так, должно быть, по памяти о детской сказке, в которой у лисы был ледяной домик, а у зайца лубяной, пришла весна, лисья ледяная избушка и растаяла. А заячья, самая маленькая в санатории, стоит уже более сорока лет, и ничего ей не делается. Предназначалась она, как говорит юное сорокалетнее предание, для охранников американского президента Эйзенхауэра, собиравшегося в ту пору посетить Байкал. Но посещение не состоялось: за полгода до поездки Эйзенхауэра американцы неосторожно заслали в глубины России самолет-разведчик У-2. Над Уралом он был сбит, и разразился скандал. А приготовленная для американского президента резиденция дала основание санаторию. Стоит он на солнцеприпечном взгорке как раз над истоком Ангары — картина волшебная и могучая, из тех редкостных и неизъяснимых, перед которыми немеет наш язык, со смятением и растерянностью называя их неземными. И вот ее-то я и имею счастье наблюдать хоть полными днями из окон сквозь негустой строй сосен и кедров.
Избушка только снаружи кажется маленькой, а внутри она ничего себе: три уютных и светлых комнатки, кухня, туалет с ванной за общей дверью и десять окон на все четыре стороны. По утрам мне доставляет удовольствие открывать на них шторы, и это занятие занимает у меня никак не меньше десяти-пятнадцати минут: встанешь перед западной стороной, где из-под белого ледяного поля выливается в широкую горловину меж берегов торжественная новороженица Ангара, и не можешь отвести глаз. Тут главное, ни с чем больше не сравнимое целение в этом санатории, тут столь полное и счастливое обезболивание от ран жизни, до которого чувства наши не достают.