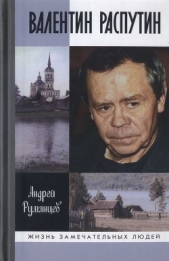Повести и рассказы
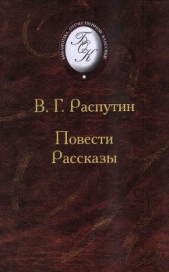
Повести и рассказы читать книгу онлайн
Валентин Григорьевич Распутин — русский прозаик, произведения которого стали классикой отечественной литературы, писатель редкого художественного дара. Его язык - живой, точный и яркий, драгоценный инструмент, с помощью которого Распутин творит музыку родной земли и своего народа, наделяя лучших своих героев способностью ощущать «бесконечную, яростную благодать» мироздания, «все сияние и все движение мира, всю его необъяснимую красоту и страсть...».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Со своим хозяйством колхозных 24 рублей Агафье хватало вполне, из этого же прихода она умела выкроить избыток, который два раза в году отправляла по почте дочери в город. Дочь в ответ откликалась на Рождество открытками. Прочитать их было невозможно ни грамотному, ни безграмотному! Агафья узнавала руку, выводившую три или четыре короткие и размашистые волнистые линии, подолгу изучала цветную картинку на обороте, отдаваясь этому занятию с приливающей нежностью к чему-то неизведанному, прошедшему мимо ее жизни, с неясным вздохом укладывала открытку сверху в ту же пачку, что и все остальные, хранившуюся на посудной полке за горкой фарфоровых тарелок. Дочь не изъявляла желания приехать, а Агафья и не звала, не зная самого простого — как звать и зачем? В молодости она умела писать, научившись рядом с дочерью, когда та бегала в школу, потом забыла. Читала тоже с трудом и по печатному, печатными же заученными буквами крупно выводила половину своей фамилии, когда требовалось расписаться за пенсию.
У Савелия, пока он оставался в поселке, бывала часто. Угощаться не любила, она и везде-то, в любом доме чувствовала себя за столом стеснительно, а усаживалась у Савелия подле дверей на лавочке, ревниво убеждалась, что обихожена изба мужиком лучше, чем ею, бабой, и начинала разговор с одного и того же:
— Ну, так че решил?
Савелий долго жил в раздумье, переезжать или не переезжать в райцентр. После перетряски ангарского народа там, в райцентре, оказались у него два двоюродных брата из ереминского рода, там жила свояченица, младшая сестра умершей жены, не переставшая считать его за близкую родню, звавшая особенно настойчиво, оттуда было ближе до дочерей, там подворачивалась подходящая избенка для купли, вполне по карману, если здесь продаст он свою в леспромхоз. Со всех сторон выходило, что прямой резон ему, одинокому и стареющему, перебираться. Но он медлил. Медлил еще два года и после того, как ушел на пенсию. Присмотренную им избенку продавали, находилась другая — продавали и ее, и он, ругая себя, но и успокаиваясь, снова и снова застревал. Сойдя с трактора, взялся Савелий столярничать, попробовал себя в тонкой работе, которая ведома краснодеревщикам, и смастерил себе буфет на загляденье, не надо и фабричного: точно пойманный по размеру и рисунку, аккуратный, ладный, светящийся отшлифованной белой доской, игриво пестрящий, под хозяина, конопушками сучков, сверху с остекленными узкими дверцами, снизу с дверцами глухими, но изукрашенными по краям лепной змейкой. Смастерил и поставил его в чистой комнате в красном углу. Агафья, увидев красавец-буфет в первый раз, так и ахнула:
— Нет, парень, тебе в рай-ён надо, в рай-ён. — «Рай-ён» выговаривался у нее с таким почтением, точно указывалось прямо на райское обитание. — Об таких руках тебе тут делать нечего… — и несколько раз за вечер подходила погладить буфет, понежить руку.
Агафье Савелий заменил на новые все табуретки и лавки, вся изба пропахла сладким смоляным духом. Потом, не спрашивая, привез курятник. Агафья к той поре решила не знаться больше с курицами — возни и без них доставало. Но привез Савелий курятник — с широкой столешницей, на которой удобно вести стряпню, с узорной, радующей глаз решеткой, с длинным и узким корытцем, долбленным из березы, придерживаемым березовыми же красиво раскоряченными лапками, с двумя круглыми седалами внутри, одно выше, другое ниже, — ну и что? — ну и запросил у клохчущей от растерянности бабы курятник куриц, ну и завозились они опять, как при старом житье, ну и не вышло куриного облегчения.
Уезжал Савелий поздней осенью, когда сбило лист, индевели по утрам совсем по-зимнему заморозки и до колючей пустоты высветился воздух. Только что пробили наконец дорогу по горе вместо старой, затопленной, а до того шесть лет водой и тайгой были отрезаны от мира. Савелий взял в леспромхозе бортовую машину, еще с вечера загрузил ее, оставив на ночь в своем дворе, и уже в темноте постучал Агафье, чтобы она зашла попрощаться.
А она и не знала, что он наизготовке, что осталась последняя ночь.
Ярко светила голая лампочка под потолком, освещая пустые углы, об нее с бешенством бились злые последние мухи. Изба была хорошо вытоплена и чисто прибрана в своей пустынности. Чай пили за кухонным столиком, вынесенным в прихожую, этому столику отказано было в переезде. На плите тягучею мирною песней посапывал чайник ветеранского, закопченного вида, тоже никуда не собиравшийся. К печке после приборки прислонены веник и совок, рядом горка дров, на полке справа от печи несколько туесов с каким-то припасом. Как в таежном зимовье перед уходом, чтобы следующий путник мог почувствовать гостеприимство.
Агафья угощалась карамелью, наваленной на столе, хрумкала и вздыхала, хрумкала и вздыхала. Савелий, оставив возле двери сапоги с коротко обрезанными голенищами, ходил в толстых шерстяных носках и в толстой же, навыпуск, старой вытертой рубахе, сшитой из шинельного сукна; лицо изжелта-красное, сквозь дряблость разогретое, неспокойное. Он подливал себе чаю и рассказывал о двух молодых учительницах, приходивших днем, которые будут жить в его избе. Одна показалась ему совсем ребенком, и, на износе своей жизни разучившись угадывать, где шестнадцать лет и где двадцать, он удивлялся:
— Ручки тоненькие, ножки тоненькие, личико вострое, как у зверушки… Конфорку с плиты подняла и чуть не всю головенку туды затолкала. Францужанка, ребятишек будет не по-нашему обучать. Я говорю: у меня печь жаркая, вы трубу не торопитесь закрывать, не дай Бог угорите. А вторая, посерьезней будет, поглаже… эта арихметику будет давать. «Вы, говорит, эта-то, говорит, — сколь раз на дню, ежели по зиме, печку топите?» — «Когда мороз, два раза топлю, а чуть отпустил мороз — одного раза хватит». Францужанка, из себя вся тоненькая, а голос ниче, голос с натягом, говорит: «Каковая, значит, продолжительность топки?» — «Продолжительность топки, отвечаю, до ломоты в косте». — «Нам леспромхоз, — они мне докладывают, — должен бесплатно топливо доставлять… мы, значит, интересуемся, сколь кубометров заказывать…» — «Э-э, — говорю, — девоньки, у меня дров года на четыре наготовлено, вам столько и вполовину не сжегчи. То ли обзамужитесь, то ли ишо какой поворот. Вам леспромхоз свою обязанность не успеет оказать. Живите со спокоем».
Агафья смотрела на Савелия печально: он не был разговорчивым, и, если разговорился, да еще как-то не по-мужицки, с подробностями, стало быть, не по себе ему. Только-только начали привыкать к новому месту, только разобрались, что впереди, что позади, — снова срывайся и кочуй, снова вместо прямого хода жизни завал в сторону. Агафье этого ни за что бы больше не вынести. Но про Савелия Агафья считала, что ему надо переезжать. Из местных, из корневых, был он как-то не по-местному одинок и грустен. Мужики в деревне горазды драть горло и на баб, и на ребятишек, на скотину, на тяжелую лесную работу, на самих себя, но если бы таким же макаром, выбрасывая зло, хоть раз крикнул Савелий, кругом онемели бы от неожиданности.
— Там тебе климатней будет, — сказала и на этот раз Агафья.
— Везде хорошо, где нас нету.
— Это так, — согласилась Агафья, наблюдая, как Савелий разворачивает уже третью конфетку и оставляет их нетронутыми. — Во мне, парень, скажу я тебе, Криволуцка по сю пору стоит. Здесь я не дома. И мало кто, кажется мне, дома. Я как эта… как русалка утопленная, брожу здесь и все кого-то зову… Зову и зову. А кого зову? Старую жисть? Не знаю. Че ее, поди-ка, звать? Не воротится. Зову кого-то, до кого охота дозваться. Когда бы знала я точно: не дозовусь — жисть давно бы уж опостылела.
Ни одному-то сердечному делу она не научилась. Не сумела и попрощаться с Савелием. Только и сказала обвисшим голосом, мелкими шажками отступая к порогу:
— Я русалкой-то бродить здесь буду, кого-нить ишо покличу.
Через два года из райцентра дошло известие, что Савелия уже нет в живых. В несколько месяцев его загрыз рак. Агафья решила: «На мягких, на покладистых людей и болезни накидываются легче. Они и для болезней слаще». И без жалости подумала о себе: «Ты-то вся из одной людской запусти, на тебя и там спросу нету».