Скука
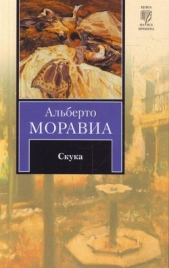
Скука читать книгу онлайн
Одно из самых известных произведений европейского экзистенциализма, которое литературоведы справедливо сравнивают с «Посторонним» Альбера Камю. Скука разъедает лирического героя прославленного романа Моравиа изнутри, лишает его воли к действию и к жизни, способности всерьез любить или ненавидеть, — но она же одновременно отстраняет его от хаоса окружающего мира, помогая избежать многих ошибок и иллюзий. Автор не навязывает нам отношения к персонажу, предлагая самим сделать выводы из прочитанного. Однако морального права на «несходство» с другими писатель за своим героем не замечает.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А ты знаешь, сегодня было очень хорошо.
— А разве не всегда одинаково?
— О нет, всегда по-разному. Бывают дни, когда не так хорошо, но сегодня было хорошо.
— А что значит — хорошо?
— Разве это объяснишь? Женщина чувствует, когда хорошо, а когда нет. Знаешь, сколько раз я кончила?
— Сколько?
Она подняла руку, показав три пальца, и сказала: «Три»; потом снова закрыла глаза и легонько ко мне прижалась; при этом движении в ее лице с опущенными ресницами мне снова почудилось то ироническое выражение, которое я заметил раньше. «Так, может быть, — подумал я, — может быть, я и в самом деле сумел познать ее на этот раз до конца, до самого конца, так что не осталось в ней для меня никакой тайны, никакой скрытой от меня жизни». Но я не мог знать этого точно и потому не мог наслаждаться своей победой: об обладании может знать все лишь тот, кем обладают, а не тот, кто обладает. И я снова, сильнее, чем когда-либо, ощутил невозможность настоящего обладания, несмотря на всю полноту физического слияния. Мне хотелось спросить: «А с кем лучше — со мной или с Лучани?», но еще раз почувствовал, что не в силах произнести имя актера. Вместо этого, сам не знаю почему, я спросил:
— Это правда, что Балестриери умер в твоих объятиях, в то время как вы занимались любовью?
Я увидел, что она, не открывая глаз, слегка поморщилась, словно почувствовала на своей коже надоедливое прикосновение мухи. Потом пробормотала:
— Ну зачем тебе это?
— Нет, ты скажи, это так или нет?
Она по-прежнему лежала, закрыв глаза, и у меня было ощущение, что я допрашиваю сомнамбулу.
— Не совсем так, — сказала она. — Ему действительно стало плохо, когда мы занимались любовью, но умер он позже, когда мы уже кончили.
— Ты просто не хочешь сказать мне правду.
— Почему? Я говорю правду. Я очень тогда испугалась. Я думала, он умер, но, к счастью, он пришел в себя и дошел до постели.
— Значит, вы были не в постели?
— Нет.
— А где?
— А тебе что, все надо знать?
— Ну так где?
— На лестнице.
— На лестнице?
— Да, ему мог прийти каприз в любой момент и в любом месте. Мы только что кончили заниматься любовью в комнате, что на антресолях, и спускались в студию, потому что он собирался меня рисовать. Я шла впереди него, и вдруг ему захотелось меня взять, и он взял меня прямо на ступеньках. Но знаешь что?
— Что?
— После того как он почувствовал себя плохо и я помогла ему снова подняться наверх и лечь в постель, он некоторое время лежал с закрытыми глазами. Но потом постепенно пришел в себя и, подумай только, захотел взять меня снова, в третий раз! Но я не захотела. Мне и так казалось, что я лежу с мертвецом, и мне было страшно. В конце концов ему пришлось с этим смириться, но он очень рассердился. Иногда я думаю, что он и умер-то, потому что рассердился.
Стало быть, подумал я, Балестриери действительно хотел покончить с собой. Мне казалось, что я вижу их на ступеньках, как они размыкают объятия в самый разгар любви, и старый художник, держась обеими руками за перила, карабкается по ступенькам на антресоли и падает на постель, а потом этот полутруп снова вдруг садится на постели и протягивает к Чечилии руки. Я спросил ее, следуя логике своих размышлений:
— А ты изменяла Балестриери?
Я снова увидел на ее лице досадливую гримасу, словно к ней приставала муха, и понял, что на самом-то деле я спросил: «А мне ты изменяешь?» Кажется, даже она поняла настоящий смысл вопроса, потому что ограничилась только тем, что прошептала:
— Ну вот, начинается.
Но я настаивал:
— Нет, ты все-таки скажи: ты ему изменяла?
В конце концов она ответила:
— Зачем тебе это знать? Ну хорошо, изменяла иногда: он был такой скучный.
У меня перехватило дыхание:
— Скучный? А что это значит — «скучный»?
— Скучный — это скучный.
— Но что значит для тебя это слово?
— Скучный значит скучный.
— То есть?
— Скучный.
Итак, Чечилия мне изменяла, подумал я, и изменяла она мне потому, что я был скучный, то есть не существовал для нее так же, как она не существовала для меня. Но между нами было различие: я знал, что такое скука, потому что страдал от нее всю жизнь, в то время как для нее скука была лишь неосознанным импульсом для того, чтобы переместить свои соблазнительно покачивающиеся бёдра в какое-то иное, далекое от меня место. Я снова посмотрел на нее: она лежала на спине, раздвинув ноги, в той позе, в которой осталась после соития, уверенная в том, что ее непринужденное бесстыдство должно показаться мне совершенно естественным, свидетельствующим о нашей близости… И, глядя на нее, я вдруг поддался обычной мужской иллюзии, заставляющей нас видеть в физическом обладании единственно реальное обладание. Да, подумал я, Чечилия вырвалась и ускользнула, но если я возьму ее снова, кто знает, может быть, я овладею ею по-настоящему и до конца и сумею побороть это ощущение неполноты. Я приподнялся и, склонившись над ней, коснулся ее губ своими.
— Мне уже надо бежать, — пробормотала она, не открывая глаз.
— Погоди!
И я взял ее снова, хотя она так и не открыла глаза, и только движением тела, алчно ответившем моему, показывала, что готова к соитию, и это было еще одним доказательством того, что она не здесь, а где-то в ином месте, и все, чем я вступал в обладание, не имело для нее никакой цены и, следовательно, для меня тоже. На этот раз, сразу же после любви, Чечилия открыла глаза и сказала:
— Теперь мне и в самом деле пора.
Она встала, побежала в ванную и исчезла за дверью. Оставшись один, я погрузился в бесплодную рефлексию. Я рефлектировал в буквальном смысле слова, то есть созерцал в темном зеркале своего сознания себя самого — то, как лежу я, голый и неподвижный, на диване, — подрамник с чистым холстом у окна, комнату со всем, что в ней было. Потом в этом объективном и мертвом мире прорезалась вдруг четкая мысль, и она состояла в том, что после второго соития Чечилия стала еще более неуловимой и, следовательно, еще более реальной; так что, если бы каким-то чудом я сумел бы взять ее не два раза, а двести, я был бы так же неудовлетворен, как и в первый раз. Одним словом, я обладал ею тем менее, чем больше раз я ее брал, хотя бы потому, что, овладевая ею, я тратил силы, необходимые для того, чтобы владеть ею по-настоящему, то есть как-то так, как я не мог себе и представить.
Тут я услышал, что Чечилия приоткрыла дверь ванной, и, приподнявшись на локте, сказал:
— Посмотри в шкафу, там есть для тебя подарок.
Я услышал, как она воскликнула:
— Подарок? Для меня? — Но в ее голосе не было ни удивления, ни радости; она отворила дверцу шкафа, взяла сумку, открыла ее, но я ничего этого не видел, потому что продолжал лежать на спине, уставившись в потолок. Однако через некоторое время я почувствовал на своих губах ее детский сухой поцелуй и услышал, как она прошептала: «Спасибо». Я еще раз приподнялся: Чечилия, уже полностью одетая, стояла около стола и перекладывала содержимое старой сумки в новую. Я снова упал на спину.
Глава шестая
Как вы, наверное, уже поняли, Чечилия не относилась к числу любителей поболтать, можно даже сказать, что естественным ее состоянием было помалкивать, и даже когда она говорила, все равно умудрялась ничего не сказать благодаря ошеломляющей краткости и безличности своей речи. Казалось, в ее устах слова теряют свое реальное содержание, превращаясь в лишенные смысла звуки, словно она говорила на неизвестном мне иностранном языке. Отсутствие в ее выговоре чего-либо специфического, свидетельствовавшего о принадлежности к определенной социальной или диалектальной группе, отвращение к общим местам и сведение разговора к простой констатации типа «сегодня жарко» усиливали это ощущение бессмысленности. Например, я спрашивал ее, что делала она вчера вечером, и она отвечала: «Вчера вечером я ужинала дома, а потом мы с мамой ходили в кино». Так вот, я сразу же замечал, что слова «дом», «ужин», «мама», «кино», которые в других устах значили бы то, что они и должны значить, и, следовательно, в зависимости от того, как они произносились, я мог бы понять, правду она говорит или лжет, в устах Чечилии оказывались всего лишь бессмысленным набором звуков, за которыми невозможно было вообразить ничего реального, будь то правда или ложь. Я часто спрашивал себя, как Чечилии удается разговаривать так, что. в результате возникает ощущение, что она ничего не сказала? И пришел в конце концов к выводу, что выразить себя она была способна лишь одним путем — сексуальным, не поддающимся словесной расшифровке, хотя, без сомнения, чрезвычайно своеобразным и убедительным; посредством же уст она поведать ничего не могла, оттого что этот канал связи был у нее как бы ненастоящим, без глубины и резонанса, ибо никак не сообщался с тем, что у нее внутри. Так что, глядя на нее в то время, как она после любовного акта лежала рядом со мною на спине, с раздвинутыми ногами, я невольно сравнивал горизонтальный разрез ее рта с вертикальным разрезом лона и с изумлением отмечал, насколько второй был выразительнее первого, выразительнее именно в психологическом смысле, как бывает выразительно лицо, выдающее характер человека.























