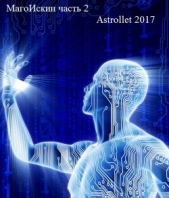Хороший Сталин

Хороший Сталин читать книгу онлайн
По словам самого автора «Хорошего Сталина», эта книга похожа на пианино, на котором каждый читатель может сыграть свою собственную мелодию.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Ростропович нахмурился, стараясь вспомнить, но не вспомнил, и через секунду его уже не было видно. Наутро папа рассказывал мне, как они тепло встретились с Ростроповичем.
Советских артистов папа охранял от грехопадения, французских — соблазнял. Родители упивались дружбой с Монтаном и Синьоре. Их общие фотографии на вилле актеров в теплый солнечный день вошли в золотой фонд родительского банка памяти. Дружба с Монтаном кончилась странно. Уговорив его поехать в Москву после венгерских событий, отец воспринимал это как свою личную победу. Дальнейшее можно трактовать по-разному. Москва встретила Монтана яростным обожанием. Его приезд для задолбанных москвичей, которые мало что поняли в венгерской революции, был знаком не советской идеологической хитрости, а послесталинской оттепели. Монтан в Москве объективно сработал на либерализацию России. Но на его концерт пришел Хрущев со свитой, и это превратилось в политическую демонстрацию. Монтан вернулся во Францию, чувствуя себя обманутым. Мои родители долгие годы рассказывали мне с возмущением, что у него возникли проблемы с выступлениями на радио, с записью пластинок, что его бойкотировали — таким образом его наказали, — и ему, почти коммунисту по взглядам, пришлось, как Шаламову в «Литературной газете» за свои колымские рассказы, жалко оправдываться в правой «Фигаро». Дружба с моими родителями после возвращения резко пошла на убыль.
Симона Синьоре, уже после вторжения в Чехословакию, написала книгу, в названии которой стояло имя моего отца: «До свидания, Володя». Возможно, речь шла о нем как символе ее разрыва с коммунистами. Монтан стал антисоветчиком, снялся в фильме «Признание». Во время Горбачева он приехал с этим фильмом в Москву. Отец отправился на премьеру, чтобы встретиться со своим старым другом. Он попался на глаза Монтану после концерта. В отличие от Ростроповича, тот узнал его, и, наверное, понятно почему. Они оба постарели, но еще держались мужчинами, хотя глаза у обоих были по-старчески водянистыми. Россия тоже стала уже другой. Монтан издалека помахал рукой, окруженный толпой, громко сказал: à bientôt! à bientôt! [11] — но не подошел, не пригласил на банкет, не обнял, не расцеловался. Папа пришел домой смущенным. Тема дружбы с Монтаном была осторожно снята из семейного репертуара.
Когда я бываю в Париже, я захожу в Нотр-Дам, ставлю две свечи «во здравие» и, как семипудовая купчиха, прошу Господа, чтобы родители долго жили, не болели. Они отпали от Тебя по историческим обстоятельствам, но они уже старенькие, нуждаются в понимании, ласке, божеской доброте. Я иду по набережной мимо лавок букинистов, где торгуют журналами пятидесятых годов, скандальные обложки тех лет теперь кажутся тихой заводью, и вдруг все заново возвращается. Нашу семью разложили импрессионисты (маме они нравились еще в конце 1930-х, в Москве). Недаром советский искусствовед Кеменов воевал с ними до последнего. Он, возможно, справедливо считал, что они подрывают идею объективной истины, разрушают ткань смысла, возвеличивают случайность. Кеменов работал тогда в Париже сотрудником ЮНЕСКО, любил Бенуа, а с родителями на прогулках играл в «города»:
— Калуга!
— Алма-Ата!
— Красноярск!
— Клизмострой! — сказал Кеменов.
Все, включая меня, захохотали, но родители перестали его приглашать: хитрый, он мог распознать тайную любовь мамы к Моне. Еще задолго до открытия раннего Маяковского, моего первого (и последнего) кумира, который висел у меня в комнате над дверью и который был внешне легальным, но уже внутренне глубоко подрывным кумиром, импрессионисты, а дальше Ван Гог, Гоген, Модильяни, вся эта корзинка — мои искушения. Без них я бы пошел скорее в сторону Института международных отношений, мечтал бы стать министром иностранных дел — и, может быть, им бы стал. Но эти художники сбили меня с толку, прочистили мозги, проложили дорогу в пропасть. Затем еще мне на голову посыпались кубисты, абстракционисты, сюрреалисты. Импрессионистов очень рано открыла для меня моя мама. Их не надо было читать и усваивать: они покоряли с первого взгляда. Они рифмовались с моими маками под Парижем, с моей Сеной, с моей Марной, с моими каштанами и платанами.
Чем дальше я пишу эту книгу, тем хуже разбираюсь в тайных и явных противоречиях своих родителей. Вот уж действительно кто — НЛО моей жизни. Анализ родителей похож на интеллектуальный инцест. Какие бы демоны ни терзали (как говорит моя мама) мою душу, я всегда находил десятки оправданий, чтобы не копаться в родительском белье. Я плохо знаю своих родителей, и я этим вполне доволен. Откуда мне знать, почему они так быстро поддались европейскому искусу, почему именно на них лег отпечаток Европы?
Помимо еды и одежды, Европа постепенно завоевывала их своим вкусом к жизни. Папа стал играть в теннис, забыл шахматы. Он купил ракетки «Данлоп» и «Шлезенгер», запасся ворсистыми фирменными мячами, купил белые шорты и белую тенниску с зеленым крокодильчиком. Не менее значимым моментом стала его покупка восьмимиллиметровой кинокамеры. Это был сначала чисто туристический вариант, который соответствовал оттепели, но затем, очевидно, должен был наступить момент самопознания. Камера невольно требовала выбора: что и зачем снимать?
Любительское кино — это война со смертью. У родителей до сих пор полно маленьких бобин с узкой пленкой. Я давно их не пересматривал (сломался старый проекционный аппарат), но в течение многих лет было так: после обеда с гостями отец выносил в столовую раскладной серебристый экран, заряжал бобины в аппарат, и начиналось стрекотание ритуальных минут показа маленьких самодельных фильмов с замками Луары, Фонтенбло и прочей французской архитектурой на зеленых газонах. Россию папа никогда не снимал. Вижу себя, угловатого, бледнолицего, во французском берете, с угловатой улыбкой, постоянного персонажа этих картин. По сравнению с прочными образами родительских знакомых, я всякий раз был другим — ускользающим объектом, как мой почерк, имеющий десятки оттенков, но давно уже отложенный в сторону из-за компьютера. Отец купил монтажный столик с маленьким экраном, вечерними часами возился: резал, клеил. Фильмы были поначалу черно-белые, со средним и дальним планом. Почти нет ни одного крупного плана — отец стеснялся наезжать на людей. Я не знаю его кричащим, топающим ногами, выходящим из себя. Среди его достоинств несомненным было самообладание, которое я унаследовал в гораздо менее целостном виде. Наверное, он был неважным оператором и режиссером. В отце проклевывалась, но так, возможно, и не проклюнулась идея самопознания. Его, очевидно, интересовало не искусство, а сами объекты, коллекция увиденного, неосознанный отчет о проделанной жизни и только в самом слабом виде — свое избранничество. Он не снимал рискованных кадров, и как-то раз, получив от близорукой Галины Федоровны, которой, видимо, увлекался, такую же узкую кинопленку о ее поездке в Мали, он безжалостно вырезал на монтажном столе африканца, трясущего перед камерой своим черным членом — к глубокому сожалению собравшихся у нас дома зрителей. Домашний кинотеатр отделил мою семью от мира посольства, живущего в себе и для себя.
Просмотр любительских фильмов нередко шел под музыку, и здесь тоже была победа Европы. В отличие от мелких сотрудников посольства, которые втихаря крутили Лещенко, из запрещенного ставшего полузапретным, родители, не любившие ухарства, предпочитали французские песенки. Они обожали Эдит Пиаф. Слушали Брассанса. Появился Азнавур и много чего еще. С Ивом Монтаном и Симоной Синьоре родители сильно сдружились (еще один сильный искус Франции — встречи с такими людьми, но я его почти не наблюдал: меня таким людям не показывали). Родители никогда не интересовались джазом. Франк Синатра дома у нас не пел, но зато французские шансонье стали общим нашим домашним переживанием. Я до сих пор напеваю песенку: